
Павлик вернулся в палату и, чтобы показаться садоводу очень весёлым, громко крикнул:
- Андрей Егорович, передал всё.
- А ты не кричи, - остановил его Андрей Егорович. - Не дома, кругом больные… Ушла Анна Ивановна?
- Собиралась.
- Глаза, наверное, красные; плакала?
- Что вы! И совсем нет! Она весёлая такая, всё с Георгием Антоновичем смеялась…
- Смеялась? - удивился Андрей Егорович.
- С места не сойти, смеялась. Он говорит: "Мы ему язву в животе одним махом уничтожим". А она говорит: "Да уж пожалуйста, а то скоро яблоки поспеют, как ему с язвой быть? Ему, говорит, надо яблоки пробовать…"
Андрей Егорович покачал головой:
- Выдумщик ты, Павлуха!
Павлик отвернулся. Хотя, верно, он говорил смешные вещи, но чувствовал, что на глазах вот-вот выступят слёзы. А он больше всего боялся этого. Одна слезинка выдаст его и может стоить жизни Андрею Егоровичу. Нет, он сдержится. Ведь не плакал же он, когда на всём скаку слетел с лошади и разбил себе голову. Но тогда было легче. Тогда самому было больно, а тут за другого. Тут подкатывает к горлу, щиплет глаза и нет никаких сил сдержать себя.
Наконец борьба с предательской слезой закончилась победой Павлика, и он смело взглянул в глаза Андрею Егоровичу. Ему очень хотелось сделать для него что-нибудь хорошее, но что именно, - он и сам не знал. А может быть, рассказать про облепиху, что растёт в больничном саду? Сама большая, как старая яблоня, а растёт на ней ягода и ягода-то меньше брусники! Нет, всё это не то. Совсем не то. Вот как бы помочь Андрею Егоровичу с операцией? Павлик морщит лоб, хмурит белесые брови и неожиданно произносит солидно, как и полагается старшему больному хирургической палаты:
- А операция, может быть, и не понадобится…
- Ты что, больше докторов знаешь?
- Больше не больше, а они тоже не всё знают. Вот на той койке лежал один больной бухгалтер, со слепой кишкой. Как привезли его, - ох, и кричал! И тоже говорил: операция, операция! А у него на следующий день всё прошло. Без операции обошлось. Сам себе не верил, всё живот щупал и смеялся: рассосалось, рассосалось!
- У меня не рассосётся, - сказал Андрей Егорович. - Мне ножа не миновать…
- А вдруг, Андрей Егорович!.. Ведь всё может быть! Вместе бы и в Золотково поехали. И прямо в шалаш. Наверное, хорошо там сейчас. Скоро яблоки поспеют…
- Еще зелено всё…
- Зелено, да ведь уже наливаются яблоки, - продолжал Павлик. - И видно, как дереву всё тяжелее и тяжелее, так и гнутся ветки к земле… Я, Андрей Егорович, пошёл бы на садовода учиться, да одно плохо - тихая работа в саду.
- А тебе какая нужна?
- Чтобы храбрость требовалась! - не задумываясь, ответил Павлик.
Андрей Егорович взглянул на Павлика. Лицо мальчика было еще бледным, но глаза горели задором, готовностью совершить что-то героическое. И садовод проговорил улыбаясь:
- От садовода тоже требуется большая храбрость…
- Посадить да вырастить? - перебил Павлик.
- А вдруг посадишь, да без толку? А есть ли толк, видно лет через пять. Вот тут не раз храбрость потребуется! Ты подумай, что люди скажут, как на тебя смотреть будут, если все труды впустую пойдут. А ещё требуется, кроме храбрости, любовь. Настоящий садовод, ты думаешь, какой? Тот, который большие яблони любит, те, что доход дают? Нет, брат. Настоящий садовод тот, кто над саженцами трясётся, как мать над малым ребёнком. Его и накорми, и подними, и воспитай… Выходит, и любить сад еще мало. Великое терпение надо!
День прошёл быстро. Это был первый такой день в больнице, когда Павлик не замечал обременительные больничные порядки. Но, когда поздно вечером потушили свет, ему снова стало не по себе. Он лежал в кровати с открытыми глазами и думал об Андрее Егоровиче. Без особого труда он представил себе садовода на операционном столе. И при одной мысли об этом ему стало страшно. Нет, не может так быть, чтобы вот так сразу человек стал неживым… Он боялся произнести это страшное слово и старался уверить себя, что Георгий Антонович ошибся и что операция, которая предстоит Андрею Егоровичу, не такая уж опасная. И всё же он снова и снова возвращался к мыслям, произнести которые вслух он так боялся.
Неожиданно Павлик откинул одеяло, присел на кровати и протянул руку, чтобы зажечь настольную лампу. Он не знал, как поступить: самому ли сделать то, что пришло ему в голову, или разбудить Андрея Егоровича. Как это раньше он не подумал о таком простом и верном выходе и потерял целый день? Надо написать письмо товарищу Сталину, рассказать, какой в Золоткове садовод Андрей Егорович, как его любят все ребята, и попросить прислать какого-нибудь профессора. Может быть, для Георгия Антоновича сделать такую операцию очень трудно: он ведь районный доктор! А для профессора, который выше не только что районного, но и областного доктора, уничтожить язву действительно пустяковое дело!
Однако Павлик не зажёг лампы. Свет еще разбудит Андрея Егоровича; и вообще прежде, чем сесть за письмо, надо его обдумать. Павлик снова ложится и начинает обдумывать письмо к Сталину. И тут возникают непредвиденные трудности. Легко написать, что надо спасти колхозного садовода. Но ведь надо рассказать от кого письмо, кто его пишет. Значит, надо объяснить, как он, Павлик, попал в больницу, рассказать, как вздумал покататься верхом на необъезженной лошади. И Павлик заснул, так и не решив, что же он напишет о себе.
На следующий день Павлик проснулся немного позже обычного. Завтракал он один. Андрею Егоровичу есть не дали - сказали: анализ будут делать. А потом достал бумагу и карандаш и направился в больничный сад, чтобы засесть за письмо. Но Андрей Егорович остановил его и спросил:
- Ты кому собрался писать?
Павлик сначала хотел сказать, что в Золотково, матери, потом ребятам, и неожиданно для самого себя тихо проговорил:
- Сталину…
- Это по какому же делу?
- Чтобы прислали профессора…
Андрей Егорович удивлённо посмотрел на Павлика и посадил его рядом с собой.
- Ну что ж, Павлик, спасибо… Большое тебе спасибо. Только почему же ты обо мне заботишься, а о товарище Сталине нет? У него и так много дел, а ты еще заставляешь его для меня профессора искать. Да и где он возьмёт столько профессоров, чтобы к каждому больному посылать?
Павлик не отвечал. Ему хотелось сказать, что Сталин обязательно пришлёт профессора, как только узнает, что Андрею Егоровичу предстоит опасная операция. Но именно этого он и не мог сказать. А садовод уже говорил ему:
- Мы с тобой сейчас другое письмо напишем. В правление колхоза. Я бы и сам написал, да не подняться.
Павлик придвинул к столику табуретку, уткнулся коленками в фанерную дверцу и приготовился писать. Андрей Егорович взглянул на небо и тихо сказал:
- Так, сверху напиши: "О колхозном саде золотковской артели". Крупно пиши. Написал? Хорошо! А теперь дальше… - И, закрыв глаза, Андрей Егорович стал диктовать: "Сад наш самый большой в районе. В нём пятьдесят сортов одних яблонь. И беречь его надо, как золотой фонд садоводства. Саженцы нашего питомника не боятся суровых зим. Это письмо передайте садоводу, которому вы поручите сад… Садовод должен быть опытным. И обязательно в первую очередь он должен сделать вот что". Написал?
Андрей Егорович открыл глаза и увидел, что Павлик сидит за столом и совсем не пишет, а смотрит куда-то в окно.
- Ты что, парень?
- Ничего… Это я так…
- Так ли? Ну, тогда давай продолжать. Так на чём ты там остановился? Так вот, пиши дальше: "Первое: по опытному участку…"
- По опытному участку, - повторил Павлик и, не выдержав, рванулся к двери.
Андрей Егорович, превозмогая боль, присел и крикнул:
- Куда? А ну вернись! Ты что это?
И Андрей Егорович умолк. Сдвинув брови, взглянул он долгим, пристальным взглядом на подошедшего Павлика, потом откинулся на подушку и молча уставился в раскрытое окно. Там, над серебристыми ивами, в голубом летнем небе плыли лёгкие белые облака; и, провожая их, он подумал о том, как смешно, что от него скрывают всю серьёзность предстоящей операции. Ведь он же не ребёнок и отлично понимает, какая угрожает ему опасность. И всё же скрывают… Даже Павлику не велели говорить. А зачем? Ведь всё ясно! Разве стали бы вызывать профессора хирурга, не будь операция очень опасной? А его вызвали! Об этом ему рано утром сказал сам Георгий Антонович. Доктор, видимо, думает, что его больные не очень догадливые люди… А может быть, хотел подготовить? Но главное не в этом. Пусть от него скрывают опасность, пусть. Но кто Павлику рассказал обо всём? Парень сам не свой. А ему поправляться надо… И Андрей Егорович, повернувшись к мальчику, спросил:
- Тебе что про мою болезнь говорили?
- Ничего, - опустив глаза, ответил Павлик.
- А так ли? Посмотри на меня.
Павлик поднял голову, посмотрел прямо в глаза Андрею Егоровичу и почувствовал, что на этот раз он бессилен удержать слёзы. И, увидев садовода, как в тумане, он припал к столику и горько заплакал.
Андрей Егорович приподнялся и погладил слабой рукой русые волосы Павлика.
- Не надо, Павлик… Экой ты, право… Ну разве можно плакать? А еще героем хочешь быть. Ну брось, Павлик! Ты не думай, брат, о моей операции. Такие ли еще бывают болезни! Перед ними язва - так, чепуха! И то ничего! А ты испугался… Да мы её, эту язву, раз - и нет её!
Совсем близко под окном палаты раздался шум машины.
Андрей Егорович, чтобы успокоить Павлика, сказал:
- Пойди посмотри, что за машина пришла.
Павлик нехотя вышел из палаты. Его совсем не интересовали какие-то там автомашины. Разве может какая-нибудь машина помочь Андрею Егоровичу? Но через пять минут Павлик вернулся неузнаваемым. Он не вошёл, а ворвался в палату. Весёлый, улыбающийся, он подскочил к койке садовода и, чуть не прыгая от радости, громко объявил:
- Приехал! Сам видел! Приехал! И доктор сказал!
- А в чём дело? - спросил Андрей Егорович. - Кто приехал?
- Профессор! Вы, Андрей Егорович, наверное, сами написали Сталину…
- Нет. Видно, Иосиф Виссарионович заранее сказал, чтобы всем с такой, как у меня, операцией посылали профессоров. А ты, Павлик, боялся, плакал даже… А наше дело лучше не надо!
Нет, теперь Павлик уже не плакал. Чего тут плакать, когда так здорово получилось. Теперь, пожалуй, ему можно оставить Андрея Егоровича одного и выйти в сад, где у больничного подъезда стоит машина профессора. Такая большая, с красным крестом и фарой над кузовом. Ну как не посмотреть, какая она внутри, как не попросить шофёра пустить его в кабинку. И Павлик исчез из палаты.
Андрей Егорович остался в палате один. Весть о приезде профессора его взволновала, он не ожидал, что всё произойдёт так быстро, и был доволен, что его волнения не видит Павлик. Очень хорошо, что теперь парень забыл все свои опасения. Но может ли забыть о них он, кому предстоит перенести операцию и операцию тяжёлую!..
И в то же время мысли об операции переносили Андрея Егоровича в колхозный сад… Как хорошо сейчас в саду! Куда ни глянь - плоды, плоды, плоды. Яблоки еще зелёные, но уже краснеет вишня и созрела земляника. И ветерок развевает по всему саду медовый запах, и слышно, как жужжат в кустах малины пчёлы. Но в саду хорошо не только сейчас. Там даже зимой хорошо! Узкая извилистая тропа тянется среди снежных сугробов, и всё вокруг бело и молчаливо. В глубоком сне деревья, ни листочка на ветвях. Увидит ли он всё это снова? Вот странно, почему в партизанском отряде, а потом на фронте, он не ощущал смерть так близко, как теперь? Может быть, потому, что там она угрожала всем, и каждый готов был отдать жизнь за Родину. Нет, он и теперь не ощущал ни сомнения ни, тем более, страха. Но было странно представить себе, что вот его не будет, а всё останется так, как было. Вот эти ивы серебристые в окне, приглушённый шум машин, доносящийся с улицы, даже вот эта койка, на которой он лежит, будет стоять, где стоит сейчас. Изменится лишь одно. Не будет здесь его, Андрея Егоровича, золотковского садовода. Однако чего там нагонять на себя всякие чёрные мысли? Вот когда его будут оперировать? Сегодня? Завтра?
Через раскрытую дверь Андрей Егорович увидел, как доктор провёл через коридор в операционную приехавшего профессора. А через некоторое время откуда-то появилась коляска, на которой обычно больных доставляют к операционному столу. Так, значит, не сегодня, не завтра, а сейчас! Ну что же, чем скорее, тем лучше!
Когда Павлик вернулся в палату, Андрея Егоровича там уже не было. Мальчик бросился к дежурной сестре: "Где Андрей Егорович? На операции, да?" Павлик не находил себе места. Он то присаживался у дверей палаты, то выходил в коридор. И не спускал глаз с операционной. По теням, двигающимся на матовом стекле, мальчик старался узнать, скоро ли вынесут Андрея Егоровича. Нет, не может быть, чтобы операция кончилась плохо. Ведь операцию делает профессор.
И вот, наконец в дверях появилась высокая белая коляска.
Андрея Егоровича ввезли в палату и осторожно опустили на кровать. Он лежал, вытянув руки поверх одеяла, совсем не похожий на себя, какой-то очень молодой и совсем белый. И Павлик не знал, что подумать: хорошо прошла операция или плохо. Но спросить об этом дежурную сестру не решался.
Павлик долго стоял у окна притихший и большими испуганными глазами смотрел на садовода. Сколько прошло времени, он не знал. Но вот он услышал шаги в больничном коридоре и тут же увидел входящих в палату Георгия Антоновича и приезжего профессора. Профессор подошёл к кровати садовода и, подержав с минуту его руку, сказал весело:
- Скоро наш герой проснётся. Молодец! Посмотрите, Георгий Антонович, какой хороший пульс. А как отлично вёл себя на операции!
- Улыбался…
- Ну, это, может быть, нам показалось… Но, повторяю, - молодец! Знаете, есть две группы больных - те, которые содействуют операции, и те, которые ее осложняют. Так вот, ваш садовод из тех, которые помогают хирургу… Таких я много встречал на фронте. Всем смертям назло живут! Откуда он?
- Мы из Золоткова! - радостно отозвался Павлик.
Профессор только сейчас заметил мальчика и смеясь спросил:
- А ты кто такой?
- Старший больной, - отрапортовал, как на линейке, Павлик.
Он хотел объяснить удивлённому профессору, что это за должность, но увидел, что Андрей Егорович открыл глаза, и бросился к садоводу.
Как много он хотел ему сказать и сказать всё сразу! И об успешной операции, и о себе, и о профессоре. Но ничего не сказал, а только молча смотрел на своего друга и улыбался. Улыбался глазами, ртом, даже носом, который так морщился, словно Павлику хотелось чихнуть.
Андрей Егорович уже совсем пришёл в себя и посмотрел на сияющего Павлика. Он кивнул ему головой как бы говоря, что чувствует себя совсем неплохо, и, поманив мальчика слабым движением руки, проговорил тихо, заговорщицки, словно боясь, что услышит профессор:
- А я, Павлик, в нашем саду, в Золоткове был. И у шалаша всех ребят видел…

Метель
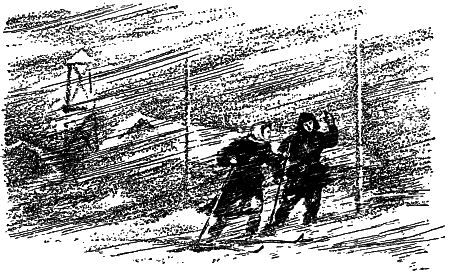
Метель началась с утра. Она застала колхозного электромонтёра Илюшу Дронова на пути к скотному двору. В ватнике и меховой ушанке, с монтёрской сумкой через плечо, он шёл по дороге и привычно поглядывал на столбы электролинии. Столбы уходили далеко вперёд, скрывались за лесом, и Илюше казалось, что они шагают вместе с ним и гудят, словно стараясь заглушить метельный ветер.
На скотном дворе Илюша проверил сначала моторы и насосы, подающие к автопоилкам воду, потом включил корнерезку и зернодробилку и стал осматривать электродоильные аппараты. Всё было в порядке, и Илюша мог итти обратно в деревню. Но на скотном дворе было тепло, приятно пахло сеном и парным молоком, и он не спешил на улицу, где выл ветер и мела холодная позёмка. Впрочем, не спешил Илюша и по другой причине. Завтра в Славянку приедут со всего района бригадиры и председатели колхозов, приедут учиться, как лучше использовать электричество в хозяйстве. Тут проверишь не только все моторы, машины и аппараты, но и каждый проводок, каждый выключатель. Да как уйти, даже после самой тщательной проверки, когда навстречу идёт сам председатель Василий Карпович! Ну что он скажет? Неужели нашёл какую-нибудь неисправность? Нет, идёт улыбается, в руках билет держит - несёт ему приглашение на торжественное заседание по случаю съезда гостей. Видный человек электромонтёр в колхозе!
Начавшаяся с утра метель становилась всё сильнее и сильнее. Она подвалила в прогоны снег, оголила чуть ли не до земли высокий береговой обрыв, гоняла уже свои дымные вихри из края в край Славянки. Когда в полдень Илюша возвращался в деревню, то поперёк дороги уже громоздились сугробы, и в снежной мгле позади сразу исчез скотный двор. А впереди сквозь метель то прорывалась пожарная каланча, то показывалась высокая черепичная крыша колхозного Дома культуры, то мелькала изгородь палисадника, и Илюше чудилось, что он видит деревню из окна мчащегося поезда.
Неожиданно у самой околицы Славянки Илюша услыхал, что его кто-то догоняет. Он оглянулся и увидел на лыжах колхозного радиомонтёра Настеньку. И без того маленькая, она казалась ещё меньше оттого, что, пробиваясь сквозь метель, шла сильно наклонившись вперёд и, вся осыпанная снегом, чуть ли не сливалась с придорожными сугробами. Илюша подождал Настеньку, и, когда она поровнялась с ним, он крикнул, не скрывая усмешки:
- Слабые токи, как дела?
- Хороши дела! - так же весело прокричала в ответ Настенька. - Не то, что у некоторых электромонтёров. Токи сильные, а работа слабая!
На метельном ветру говорить было трудно, и дальше они шли молча. Но Илюша изредка так лукаво поглядывал на Настеньку, что и без слов она должна была бы понять, что сегодня куда ей тягаться с ним. В Славянку со всего района председатели и бригадиры съезжаются не её радио слушать, а его электрохозяйство смотреть.
Соперничество между Илюшек и Настенькой возникло в тот день, когда однажды осенью их вызвал к себе председатель колхоза Василий Карпович и предложил Илюше ехать учиться на курсы электромонтёров, а Настеньке на курсы сельских радиомонтёров. Они сразу же дали своё согласие и, едва выйдя из правления на улицу, так взглянули друг на друга, словно уже окончили курсы и могли считать себя великими специалистами своего дела.
- Ну что такое радио? - проговорил будущий электромонтёр. - Самое подходящее для девчонок занятие! Это не то, что быть электромонтёром.
- А чем хуже радиомонтёр электромонтёра?
- А тем, что радио - это слабые токи! А электричество - это сильные!
- Были когда-то слабые! Всё равно и то и другое - техника.
- Нет, не всё равно, - возразил Илюша. - Я как свет дам - далеко будет видно!
- А я как заговорю - далеко будет слышно!