6
Я прихожу в себя от того, что кто-то здорово схватил меня за грудки, будто душу хочет вытрясти.
Надо мной лицо Пети Кавунка, белое, испуганное, с прилипшими ко лбу волосами. Губы у Пети шевелятся, а я не слышу - заложило уши.
Я приподнимаюсь.
Мы сидим на берегу канавы. Отливая нефтяным глянцем, бьют внизу струи, точат глину… Я сразу все вспоминаю: стальной трос, край трубы, воду с искрами снега… Теперь воды вокруг нас уже нет. Обнажилась земля - раскисшая, в грязи и тине, но все-таки земля! До чего приятно сидеть на ней, чувствовать ее под собою.
- Дура серая… - как сквозь вату, доносятся до меня слова Пети. Он отплевывается, вытирает синие губы. - Вот зачем полез?
- Я уж думал, ты…
- Ду-умал, голова два уха…
Мы перекидываемся обычными словами, но сколько за ними скрыто! У Пети еще не прошел испуг; он словно не верит, что все обошлось благополучно, вот и сам вылез, и дружка вытащил… А я слушаю хриплый его голос и радуюсь, и мне приятно, что я сижу с ним, вижу его обалделые глаза, торчащие от холода брови…
Петя замечает, что я гляжу на него, и стесняется - скромно опускает голову. Потом плюет в канаву и говорит:
- Видал? Прет вода, как нанятая. Так я и думал, что лучше всего пузом чистить… У меня, брат, пузо - сила!
А мне даже немножко обидно, что труба уже прочищена и по канаве стремительно, как струя из брандспойта, летит вода. Я же ничего не сделал, прыгал на берегу, а после полез топиться. Пожалуй, я не помогал, а мешал Пете…
Он достает из груды одежды пилотку, советует:
- Надень. Чтоб пятки не зябли.
И голос у него уже обычный, с лукавинкой.
Накинув шинели, мы выжимаем обмундирование. Чтобы согреться, скачем и зверски лупим друг друга под бока. А едва успеваем одеться, как со стоянки прибегает сержант Лапига. Еще издали он машет рукой, торопит:
- Быстрей! Помочь… Самолет сорвало!..
Всегда спокойный, Лапига сейчас растерян. Мы с Петей переглядываемся, - видать, теперь не до объяснений…
Мы бежим по очистившейся от воды рулежке. Ветер бьет нам в спины, гонит. Вижу, как впереди, в раздутой колоколом шинели, Петя вымахивает невероятные прыжки. Его тоненьких ножек не видно, и кажется, что Петя катит по воздуху, словно ведьма, подруливая подолом.
На стоянке много народу, - и наши солдаты, и поднятые по тревоге технари. Кричат, бегают. Внезапно рядом с нами слышится треск, похожий на пистолетную пальбу, и потом из земли взвивается фонтан синих чудовищных искр. Я шарахаюсь в сторону.
- Провод оборвало! - толкает запыхавшийся Лапига. - Законтачивает… Берегись!..
Фонари на столбах не горят. В темноте я не сразу понимаю, что произошло. Потом вижу неуклюже повернутые самолеты и возле них автомобиль-буксировщик. Оказывается, несколько самолетов сорвало с тормозных колодок. Они повернулись так, что буксировщику их не зацепить. А если не растащить - врубятся, помнут друг друга.
Мы с Петей кидаемся под плоскость. Там какие-то серые, согнутые, - уперлись в шасси, кричат сдавленными голосами: "Ище-о-хыть!.. И еще-о-хыть!.."
Я тоже подставляю плечо под толстую стойку шасси. Вкапываюсь ногами. Шасси медленно напирает, гнет, гнет… Еще миг - и сомнет широким, будто чугунным колесом, отскочить не поспеешь.
- И еще-о-хыть!.. - выдыхает рядом задушенный, но очень знакомый голос. Я скашиваю глаза. Рядом вмялось в стойку плечо с золотым майорским погоном, видна надутая щека и глаз. Глаз выпучен, но он все-таки замечает меня и одобряюще подмаргивает: держись, солдат!
- И еще-о-хыть!..
На какое-то мгновение ветер обрывается. И этого мгновения хватает, чтоб мы задержали, остановили самолет. "Навались!!" - истошно кричит майор, и я чувствую, что шасси опять начинает двигаться, но теперь уже назад, н-назад, нн-назад.
Между мной и майором на четвереньках просовывается Лапига, он тащит красную тормозную колодку. Сунув ее зубцы в щель между бетонными плитами, он коротко ухает: "Все!" - и мы разгибаемся.
Потом буксировщик отвозит самолет на место, выравнивает остальные, - мы в этом уже не участвуем. Это могут без нас.
Я стою, и меня качает, словно мускулы еще не могут остановиться и тянут, толкают вперед. Спина и руки наливаются горячей тяжестью. Но мне плевать на эту тяжесть, на мокрую одежду, на звон в ушах, - яростная радость захлестывает меня: сделали, выстояли, перемогли! На заплетающихся ножках бредет Петя Кавунок. Он потерял пилотку и шарит глазами, а нагнуться - я же знаю! - ему трудно, нет сил нагнуться.
- Петя, - бормочу я, - брось, Петя!.. Застрелись твоя пилотка, бери мою, после найдем.
Обратно в казарму мы выезжаем на заре. Из рваных туч по-прежнему сеет дождь, перемешанный с мелким снегом, но в мутном утреннем свете он кажется слабей и тише. Ветер тоже притих, словно выдохся за ночь.
Мне тепло, со всех сторон стиснули меня бока, спины, плечи. Трехтонку трясет, а я сижу будто в чьих-то больших руках. Но лицо у меня, наверно, здорово измученное, потому что сержант Лапига искоса к нему приглядывается. Потом он лезет в карман, долго роется в нем, вытаскивает восьмушку газетной бумаги. Снова лезет на самое дно, загребает что-то. Я вижу на его заскорузлой ладони слипшиеся, сырые крупинки махорки. Лапига бережно стряхивает их на бумагу и протягивает мне:
- Вот… осталось… Скрути, полегчает.
Я скручиваю, и мы курим по очереди, передавая цигарку по кругу.
Проезжаем мимо клуба, на заборе - афиша. Я вижу на ней цифры и вспоминаю, что уже настало первое число. Кончился месяц, отпущенный мне майором Чиренко.
Петя Кавунок мнется, опасливо поглядывает на приплюснутые уши сержанта Лапиги, затем придвигается ко мне и шепчет:
- А самосад-то у него злой, тамбовский. Вот бы нажать, чтоб поделился!
И глаза Пети снова блестят каверзно.
Полдома
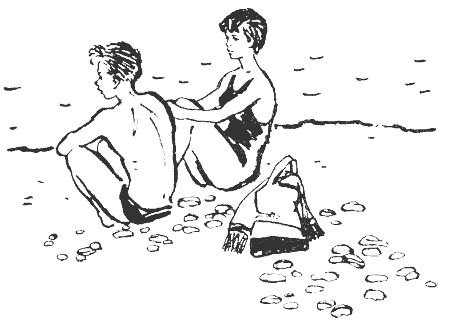
Городок стоит на берегу теплого моря. Его центральная улица широка и чиста, она украшена чугунными фонарями, цветочными клумбами и статуями оленей, помазанными алюминиевой краской.
Боковые улицы идут в гору. Там дома поставлены гуще, друг над дружкой; клумб и газонов нет, а по обочинам растут кривые каштаны, обвитые пыльным, словно вырезанным из клеенки плющом.
В конце одной из таких улиц виден старый дом под железной крышей. Он будто разрезан пополам. Одна половина дома - голубая, другая - серая, в пятнах сырости. Скаты у крыши тоже разного цвета, и даже печные трубы выглядят неодинаково: правая закопченная, а левая побелена известкой.
В чистой половине дома живет старуха, которую зовут Карповной. Зимой и летом она ходит в черной вязаной кофте, желтом платке и крепких высоких башмаках на резиновой подошве. Хоть ей и минуло шестьдесят, но она еще бодрая, держится прямо, и когда поднимается по улице в гору, то шагает быстро, без остановок, и совсем не задыхается, только под глазами, в морщинах, поблескивают капельки пота.
Карповна получает пенсию, но еще и прирабатывает: торгует виноградом и хурмой из своего сада, а летом сдает комнаты.
Неподалеку от дома расположилась туристская база, это очень удобно. Почти у всех туристов до отъезда остается три - четыре свободных дня, но путевка кончается, и их выселяют из палаток. Тогда туристы приходят к Карповне.
У нее в комнатах расставлены такие же казенные кровати с кольчужными сетками, накрыты они такими же байковыми одеялами, на тумбочках графины с водой и пепельницы - в общем, все как на базе. Только цена за постой другая.
Карповна привычно показывает им отведенную койку, рукомойник на столбе, уборную с висячим замочком: "Наверху бумага чистая, внизу грязная, после себя запирайте, чтоб чужие не ходили", - и не спрашивает ни паспорта, ни фамилии. За сезон у нее перебывает много людей, не будешь же всех прописывать.
Первый этаж она отводит мужчинам, второй - женщинам. Иногда семейные просят отдельную комнату, Карповна неумолимо разлучает их и следит, чтоб не задерживались друг у друга.
Мужчины всегда спокойней, они меньше требуют и редко ругаются. Утром спешат на пляж, возвращаются только ночевать и лишь изредка, выпив, поют песни.
С женщинами, а особенно с молодыми девчонками, хлопот больше. Они то и дело просят посуду, корыто для стирки, утюги, сердятся, если нет пододеяльников. Они чаще прибегают в комнаты, и поэтому Карповна спит не внизу, а наверху в коридорчике. Отсюда легче следить. Ночью она просыпается, когда кто-нибудь выскакивает на двор по нужде, ждет возвращения и спрашивает: "Крючок на дверь набросили?" И не засыпает, пока опять не установится тишина.
Девчонки живут глупо, бесшабашно, ничего не знают и не умеют, и Карповна учит их уму-разуму.
- Евдокия Карповна, погрейте утюг, плиссировка помялась!
- Может, это и не мое дело, - неторопливо говорит Карповна, - но вот у меня плиссированная юбка с тридцать девятого года ни разу не глаженная. Сложу ее - и в чулок, она и не мнется.
- Евдокия Карповна, где тут сапожник, набойки поставить?
- Конечно, может, это и не мое дело, - опять говорит Карповна, - но вот у меня туфли еще с войны без починки. Надо не с кожаной подошвой выбирать, а с резиновой, она совсем не снашивается. А чтобы чулки не прели, стелечку проложить.
Виноград в саду Карповны растет кислый и мелкий, но девчонкам бывает лень бежать утром на рынок, и они покупают дома, какой есть. Карповна не отказывается продавать, берет вполовину дороже, но потом, получив деньги, обязательно говорит:
- Это, может, и не мое дело, но вы ужасно много расходуете. А я вот совсем ничего не трачу. Я уж так привыкла, что мне ничего не надо.
Осенью начинаются дожди, туристскую базу закрывают до следующего сезона. Палатки одиноко мокнут, покрываются ржавыми разводами, и кумачовый лозунг над воротами линяет, пуская молочные слезы. Половина дома, где живет Карповна, тоже пустеет.
Проданы последние фрукты, из подгнившей хурмы сварено варенье и запечатано в банки. Карповна ходит по комнатам, из которых выветривается запах табачного пепла и духов.
Она снимает с коек одеяла и матрасы, прячет в кладовку. Составляет на пол графины, чтобы случайно не разбились. И каждый день подбирает тонкие лепестки известки, которые валятся с потолка.
Старый дом оседает, заваливается на один бок. Потрескивают бревна в стенках, стонут половицы, какие-то непрестанные скрипы и шорохи доносятся с чердака.
Карповна слушает эти звуки и вздрагивает, как от боли. У нее нет сил видеть, как дряхлеет дом. Она старается законопатить каждую щелку, закрасить каждое пятно. По утрам она сметает осыпавшуюся известку, но на следующий день снова на сетках кроватей, на тумбочках и на полу лежат белые лепестки и мелкая труха.
Дом удалось бы еще сберечь, если бы не соседи. Другая половина дома принадлежит им, а они не желают делать ремонт. Карповна часто ругалась с ними, но это не помогло. И теперь ей кажется, что соседи упрямствуют нарочно, - вместе со своим кровом они хотят разрушить и ее кров. Карповна прямо видит, как борется дом. Грязная, гнилая половина его вцепилась в живую, чистую половину и расшатывает, пригибает к земле. Оттого так и стонут половицы…
Не повезло Карповне в старости.
Тридцать лет назад ее муж, здешний лесничий, срубил этот дом на пару со своим другом. Семьи сначала жили хорошо. Потом началась война. Муж пропал без вести в первый же месяц, одно-единственное письмо успело прийти с фронта. А вскоре, в горькую зиму, померла единственная дочь.
Карповна осталась одна. И словно закаменела, замерла, остановилась для нее жизнь. После похорон дочки Карповна даже работать не могла, и сад и огород оставались неухоженными, дом начал ветшать. А шли жестокие годы, голодные, тревожные, и как удалось перенести их, вытерпеть, Карповна сама не понимала.
Кругом у людей было тоже немало горя, вряд ли нашлась бы семья, которую не тронула война. Но Карповне казалось, что она перенесла больше других и ни у кого не может быть такого горя, как у нее.
Во вторую половину дома вселились новые соседи. Карповна совсем не знала их, но почему-то была убеждена, что они безалаберные, несерьезные и жилье свое не берегут потому, что оно им легко досталось.
Соседи тоже невзлюбили Карповну за вечную ругань и называли "скупчихой".
- Наша скупчиха опять сухари проветривает…
А она слушала их и думала, что они, наверно, никогда не знали, что такое голод, никогда не хоронили последнего близкого человека.
Она собирала высушенные сухари и несла в дом.
Там, в чулане, стояли мешочки с крупой, банки, пакетики, бутылки масла. Было трудно уберечь от порчи это добро, но она старалась.
И не чувствовала себя скупой, нет.
Осенью, после того как закрылась турбаза и Карповна перестала ждать постояльцев, к ней в дом кто-то постучался.
Двое стояли на крыльце с рюкзаками на плечах, спрашивали комнату. Оказалось, муж и жена.
Карповна хотела по привычке сказать, что вместе нельзя, поселяет она в разных местах, но вдруг опомнилась. Оба этажа пустуют, и отводить жильцам две комнаты просто невыгодно. Пришлось поселить вместе.
- Рубль пятьдесят с койки, - сказала она сердито.
Цена была бессовестная, обычно Карповне платили по рублю. Но сейчас она испытывала к этим постояльцам неприязнь, словно они были виноваты в том, что нарушился заведенный порядок.
Спорить и торговаться они не стали. И это тоже смутило Карповну. Она провела их по саду, показывая, где находятся рукомойник и уборная, и от растерянности забыла сказать про висячий замочек. И целый день потом не могла успокоиться.
Постояльцы были молодые и, конечно, глупые. Совсем не умели жить.
Поутру муж выбегал в сад и делал зарядку. Он был маленький, похожий на петушка, и волосы на его голове стояли хохолком. Даже если на дворе было ненастно и голые виноградные лозы, растянутые на шпалерах, стряхивали капли воды, он упрямо бегал по дорожкам, а потом полчаса растягивал длинную пружину с ручками на концах. От усилий его лицо краснело и становилось совсем детским.
- Володя, - окликала его жена из окошка, - не знаешь, где мое полотенце? Наверно, опять на пляже забыли?..
Жена у Володи была такая же маленькая, но, оттого, что носила туфли на каблуках и узкие платья, казалась выше его ростом. Она тоже делала зарядку, но только в комнате. Было слышно, как она подпрыгивает и скрипит половицами.
Одевшись, они уходили к морю. Карповна знала, что теперь там холодно, пустынно; ларьки заколочены, деревянные лежаки собраны в штабеля и укрыты брезентом, ветер гоняет обрывки бумаги и рябит воду в лужах, а волны катят на берег до того мутные, что даже непонятно, откуда берется на них такая белая, чистая пена.
Но жильцы все равно купались. Обратно приходили мокрые, озябшие, но почему-то довольные, посматривали друг на дружку и улыбались. Они всегда улыбались так, словно знали что-то не известное другим и очень важное.
- Обедать хочу! - кричал Володя, швыряя в окно мохнатую простыню. - Махнем в ресторацию на вокзал?
- Может, это и не мое дело, - говорила Карповна, - только я в рестораны не хожу. Готовят на маргарине, а дерут ужасно.
Карповна прибирала их комнату и видела, что люди они небогатые. Вещей совсем немного, у Володи один костюм да курточка с прожженным рукавом, а у жены его даже сорочек нет, надевает по ночам детскую майку. И Карповна не понимала, как при такой жизни можно тратить деньги бездумно и бесполезно.
Однажды, убирая комнату, она увидела на столе, среди разбросанных журналов, каких-то учебников и разных мелких вещей, свернутые в трубочку деньги. Вероятно, жильцы забыли их спрятать.
Карповна никогда не оставляла деньги на виду, даже самые мелкие. Ей это казалось страшным, все равно что оставить сухари под дождем. И сейчас вид этих небрежно свернутых десятирублевых бумажек почти ошеломил ее.
Она осторожно взяла их, разгладила и положила на другой край стола, придавив сверху гипсовой статуэткой. Так было надежнее.
Потом, подметая пол, она все поглядывала на эту статуэтку и, уходя, переложила деньги еще раз.
Жильцы вернулись поздно вечером. Карповна уже легла в коридорчике на постель и ругать их не стала, только сонно спросила, наброшен ли на дверь крючок.
А на следующий день, снова зайдя в комнату, она увидела, что деньги лежат на прежнем месте.
Ни Володя, ни его жена так и не вспомнили про них.
Это так озадачило Карповну, что она не стала делать уборку, а тихо затворила дверь и спустилась вниз. Она попробовала заняться чем-то по хозяйству, зажгла керосинку, чтобы сварить обед, стала чистить картошку, но деньги, лежавшие наверху в комнате, все время вспоминались ей, и она как будто видела их перед собой.
"Почему же так? - думала она. - Почему мальчишке с девчонкой позволено швыряться деньгами? Ведь они не знают их настоящей цены, они не представляют, что значит кусок хлеба в голодное время. Если бы и существовало на земле такое право - не жалея, разбрасывать деньги, то эти мальчишка и девчонка не заслужили такого права…"
Коптила керосинка, пустая кастрюля грелась на огне; Карповна стояла рядом и машинально взвешивала на ладони кухонный ножик.
Потом она подумала, что уборка в комнате жильцов не сделана, и, значит, можно будет сказать, что никто туда не заходил.
Она бросила ножик в пустую кастрюльку, обтерла руки и стала подниматься по лестнице.
Хотя Карповна знала, что в доме никого нет, однако ступала на цыпочках и очень боялась, что заскрипит дверь.
Но дверь открылась беззвучно.
Очень трудно было поднять со стола гипсовую статуэтку, она словно приклеилась, и Карповна сначала неслышно качнула ее, а затем быстро подняла и схватила деньги.
В это время в саду раздались голоса, как будто хлопнула калитка. Вздрогнув, Карповна шмыгнула к окну…
Какие-то парни брели по дороге, один из них стучал палочкой о забор.
Карповна проводила их взглядом, пока не скрылись, и пошла из комнаты, стараясь не наступить на лепестки известки, кое-где лежавшие на полу.
Весь день она прислушивалась, не идут ли постояльцы. Она ждала их и представляла себе, как они будут волноваться, искать деньги, а потом - упрекать друг дружку. Пускай, пускай поищут! Это будет им уроком…
День показался ей очень длинным и каким-то пестрым: то начинал падать дождик, то между облаками проглядывало чистое, почти утреннее солнце, озаряло мокрую, дымящуюся землю, и нельзя было понять, который теперь час.
Несколько раз на дороге опять слышались голоса. Карповна настораживалась. Но это разговаривали прохожие, посторонние люди. Безотчетно мелькнула мысль: "Как много народу шляется вокруг дома, я и не видела…"
Спустились сумерки, жильцов все не было. Карповна лежала в своем коридорчике, на постели; за стеной тихонько, как мышь, копошился ветер в сучьях акации, трогал сухие стручки. Одна за другой забренчали цикады - "тюрли… тюрли… тюрли…", эти монотонные звуки были на что-то похожи, но трудно было вспомнить, на что… Потом в горах застонал, заплакал шакал. "Надо бы собаку сторожевую завести", - подумала Карповна.