К осени 1937 года, когда мы появились у Южаков, у них было справное единоличное хозяйство. Единственное в окружающем их колхозном "благоденствии"! В хозяйстве работали только пятеро: сам Савелий, Настя, восемнадцатилетние Пётр и Павел и пятнадцатилетняя Маня по-прежнему трудились с утра до вечера. А Лена и Вера были замужем и жили своими домами. Казалось, Савелий умел всё. Помимо обычной работы в поле и в саду, он прекрасно владел гончарным кругом. Горшки, крынки, миски, кружки делал и обжигал сам. Плёл всякие корзины, лапти.
Семья держала овец. Тонкорунных овец стригут раз в год, весной, с каждой овцы настригают 5–6 кг шерсти. Местных мериносов (грубошёрстных) нужно стричь весной и осенью, получая по 3–4 кг шерсти с каждой стрижки. Всю шерсть перерабатывали: мыли, чесали, пряли, из получившихся ниток вязали кофты, платки, носки. Очёсы шли на изготовление кошмы (войлока). Савелий валял валенки, а из белой шерсти мериносов катал нечто тонкое и мягкое, как сукно. Из этой "ткани" делали одежду (её даже красили в разные цвета!).
Кроме того, Савелий плотничал и столярничал - делал всякую мебель. И резал по дереву. Это были настоящие деревянные кружева! И рисунок придумывал сам. А ещё он делал деревянные ложки и миски.
Если было нужно, брался хозяин и за свой переносной горн: ковал гвозди, скобы, ножи, чинил инвентарь, подковывал лошадей. А ещё чинил обувку и заливал галоши.
В селе его очень уважали, но и побаивались: некоторые опасались, не колдун ли он. Однако если нужно было копать колодец - звали Савелия: он безошибочно определял место, где нужно копать, где вода ближе. Если корова не могла растелиться - помочь просили Савелия. Савелий умел практически всё.
У всех в садах рос тутовник - это такое большое дерево со сладкими ягодами светло-жёлтого цвета, похожими на крупную длинную малину. В России его ещё называют шелковицей. А Савелий посадил вдоль забора с соседом целый ряд тутовника и весной, когда на тутовнике распускались листья, куда-то ездил и привозил несколько коробов с ожившими гусеницами шелкопряда. В сарае на стеллажах этих гусениц кормили листьями тутовника. Гусеницу кормят 30–35 дней, потом она начинает завивать кокон. Чтобы кокон хорошо разматывался, на стеллаже расставляют специальные кокончики в виде веничков из соломы. Зимой, когда было "нечего делать", семья заготавливала несколько тысяч таких веничков. В течение трёх дней гусеница заканчивает завивку и превращается внутри кокона в куколку. В коконе за 14–18 дней куколка становится бабочкой, но чуть раньше, на 9–10-й день после завивки, коконы собирают и сразу сушат. Долго хранить коконы нельзя - вылетит бабочка и кокон не будет разматываться. Южаки сушили коконы в русской печке. Потом сухие коконы хранятся хорошо. Ну а в "свободное от работы время" коконы разматывали, получая шёлковую нить. Из этой нити ткали шёлк или вязали шёлковую вещь тонким крючком.
Если на еду резали овцу или барана, Савелий выделывал снятую шкуру. Из выдубленных шкур потом шили кожухи всем членам семьи (кожух - это что-то вроде дублёнки).
Вот какая семья взялась выхаживать и обихаживать маму и меня. Мама быстро пошла на поправку. Её лечили, а меня, похоже, просто откармливали. Но сколько же интересного я увидела за это время! Как молотят цепами пшеницу, как прядут шерсть, как ткут. Савелий взял меня с собой в горы - мы ездили за глиной, из которой делают посуду. Он вырезал мне ложку - маленькую, по руке.
Улыбался Савелий редко, говорил - и того реже. Вопросов маме никогда не задавал. Когда я лезла к нему со всякими "почему", хмурился и обстоятельно отвечал, а чаще говорил: "Пойдём, сама увидишь". Я и ходила за ним как хвостик, и смотрела, как что делается.
Мама совсем поправилась и снова начала искать работу. Меня с ней отпускали не всегда, только в хорошую погоду. И к вечеру мы возвращались в тёплый дом.
Как-то "между делом" Савелий свалял мне валенки и сшил ичиги - кожаные сапожки с мягкой подошвой. Обувь была мне великовата - "на вырост". Починил мои и мамины ботинки. Долго крутил мамин левый ботинок, что-то мерял и… выточил из дерева точное повторение подошвы маминой ортопедической обуви. Так и у мамы появились новые ичиги, причём ортопедические!
А вечерами все садились за работу. Маня и Настя пряли, мама шила Мане нарядные платья и кофточки (Маня уже "заневестилась", и ей готовили приданое). Мама хорошо шила на швейной машинке, вещи получались "как магазинные". Савелий и сыновья резали ложки, чинили обувь, а я - я громко и с выражением читала всем работающим толстую старую книгу - "Жития святых". Иногда доставали ещё одну книгу, и тогда читать садилась мама - это была Библия. У меня не получалось читать её бегло: книга была на церковнославянском языке. Мама читала и, если видела, что фраза мне не совсем понятна, переводила на русский.
Однажды вечером, вернувшись после поисков работы, мама сказала, что, хотя она по образованию агроном, может быть, её возьмут работать машинисткой в колхозную контору в Каптал-Арыке. Им нужен делопроизводитель, знающий русский. Сложность только в том, что это киргизское село и там никто по-русски не говорит, даже в конторе.
- Не торопись соглашаться, - подумав, сказал Савелий. - Тебе придётся заполнять ежедневные наряды со слов учётчиков-киргизов. Они-то все понимают по-русски и многие говорят, только с очень сильным акцентом. Ты по этим нарядам будешь делать для района еженедельные и ежемесячные сводки выполнения работ. Но при первой же ревизии окажется, что сводки, написанные твоей рукой, неправильные. Нарядчики и бригадиры скажут: "Мин урусча бельмэ", а ты за вредительство поедешь туда, куда Макар телят не гонял. Нет на это моего согласия. А если всё-таки согласишься - Еличку не отдадим, тут останется. Туда нельзя везти девчонку: скрадут, переправят к родне в горы, а лет в десять-двенадцать замуж выдадут. За такую беленькую большой калым заплатят. Здесь тебе не Москва - свои порядки. Нет на это нашего благословления. Правда, мать?
- Обеих никуда не пущу. По весне парни в армию уйдут, дом совсем пустым станет. А в контору и в здешнем колхозе по весне устроишься. Отец сам решил: как парней в армию заберут, пойдёт работать в колхоз бычатником - всё равно без мужиков хозяйство порушится.
- И как же вы будете? - спросила мама.
- Вот будет работать в колхозе. Бычатнику вон полтора трудодня во весь год положено, а Савелий и так за ихними бугаями приглядывает - наши ведь, племенные. Мы сами их колхозу отдали - всё равно всё село к нашим бугаям своих коров водило. Нас за это и не раскулачивали. И работников мы никогда не держали - сами ломили и все "излишки" в колхоз отдавали. Они только к нашему хозяйству приглядывались, а отец сам скот пригнал. Вот и не тронули. Оставайтесь у нас, перебедуем вместе, дочушка.
- Нельзя нам у вас надолго задерживаться, - грустно ответила мама. - Нам лучше на казённой квартире жить. Случись что - вас ведь тоже не помилуют; кто знает, куда ещё ветер подует. Мы уж будем искать работу. В Каптал-Арык не поедем, это я вам обещаю. Попробую ещё по школам походить - может, где-нибудь нужен учитель химии, биологии или иностранного языка, ну или музыки и пения. А вам спасибо на добром слове.
Савелий нахмурился, а Настя и Маня почему-то заплакали.
IX. Кант бала - сахарный ребёнок
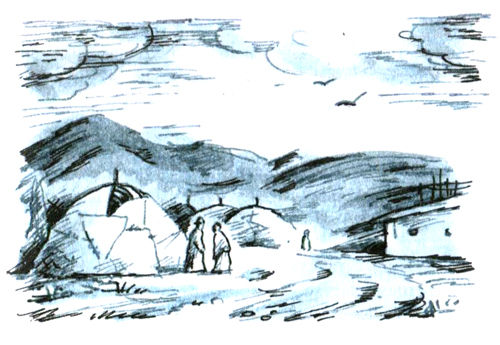
Поиски работы продолжались. Однажды, когда мы шли по узкой пыльной дороге, нас обогнал "газик". Машина вдруг остановилась, из неё выскочил человек и с криком бросился к маме: "Нудольская, ти? Что ти тут делаешь?" Это оказался мамин знакомый по работе в Москве. В последнее время перед папиным арестом они часто встречались. А сейчас Тачев работал в Киргизии директором завода-совхоза "Эфиронос", расположенного как раз в том районе, к которому мы были прикреплены!
Тачев - один из болгарских коммунистов, эмигрировавших в Советский Союз вместе с Георгием Димитровым. В 1937 году часть болгарских политэмигрантов арестовали и вскоре расстреляли; Тачева же убрали из Москвы, отправив директорствовать в Киргизию. Много позже, в начале 1941 года, уезжая куда-то и прощаясь, он сказал маме, что Тачев - это не настоящая его фамилия, но назвать настоящую ещё не пришло время. Так мы её и не узнали.
Тачев устроил маму агрономом на верхний участок. В совхозе было два отделения: центральная усадьба, где находился завод по производству эфирных масел, и верхний участок - поля с эфиромасличными культурами - мятой и шалфеем - и сахарной свёклой. В Кара-Балты был сахарный завод, и все колхозы и совхозы вокруг выращивали, кроме своей основной продукции, сахарную свёклу для этого завода.
На верхнем участке жили и работали семь семей русских и триста семей киргизов.
Маме не только дали работу, но и выделили маленькую комнату, где помещались узкая железная кровать, столик, одна табуретка и печка - настоящая печка с вмазанной плитой. Тачев обещал, что, как только будет можно, он переведёт её работать на центральную усадьбу, а сейчас нужно тихо отсидеться подальше.
Узнав о маминой удаче, Настя всплакнула, а Савелий хмуро сказал:
- Завтра я собирался в те края, подвезу вас. От Вознесеновки до верхнего участка километров пятнадцать.
Утром в большую арбу запрягли двух быков (так там называли волов), погрузили какие-то мешки, поставили здоровенный сундук, посадили нас с мамой и - цоб-цобе! - поехали. Быками управляют не при помощи вожжей, а криком: "цоб!" - направо, "цобе!" - налево.
Приехав на место, Савелий молча приволок в комнату сундук, все мешки, буркнул: "Ну, живите", - и уехал.
В поклаже оказались мешок пшеницы, мешок початков кукурузы и два мешка тыкв, в сундуке - постельные принадлежности, одежда для нас обеих, чугуны, сковорода, посуда и два ведра.
Надо сказать, что к тому времени из всех вещей, взятых нами из Москвы, у нас осталась только одежда, что была на нас, да два "тома". Первый - маленький целлулоидный негритёнок Том - у меня, а второй - старинный томик карманной хрестоматии "Русскiе поэты" (составитель Петръ Вейнбергъ, изданiя А. С. Суворина С.-Петербургъ) - у мамы. Эти два "тома" надолго стали моими единственными друзьями.
Не успели мы распаковать вещи, как отворилась дверь и через порог решительно шагнула очень пожилая женщина. На смуглом от загара лице с резкими глубокими морщинами - яркие светло-серые глаза.
Оглядев внимательно и быстро всё вокруг, сказала: "Ведро есть? Давай его". И объяснила, что питьевую воду привозят в бочке рано утром, ещё до начала рабочего дня, и что воду из котлована пить нельзя, потому что там поят скот и моют лошадей, а воду для стирки, если есть мыло, нужно брать из арыка, если в нём есть вода. Вода в арыке бывает в двух случаях: когда в горах идёт дождь или тает снег.
Ну, а раз мы только что приехали, ясно, что питьевой воды у нас нет. Через минуту вернулась, принеся нам полведра воды - до завтра хватит. И ушла, бросив: "Вечером приду".
В комнате было чисто, но очень сыро: видимо, здесь давно никто не жил и печь не топили. Стены свежепобелены, а потолок - серо-зелёный со свисающими кое-где коричневыми, как будто бархатными хвостиками.
- Ой, мама, смотри, какой потолок! Я такие хвостики уже где-то видела… Это же камыш! Он в Дубёнках знаешь как растёт! Прямо джунгли! Это у нас крыша покрыта камышом, потому и выглядит так странно?
- Да, дорогая, только эта трава называется рогоз.
- Няня говорила: камыш!
- Его почему-то многие так называют, хотя правильное название - рогоз. А настоящий камыш - это тоже очень высокая трава, только у него не такие прямые бархатные хвостики на верхушках, а большие мягкие метёлки.
- А пол какой чудной…
Пол был глинобитный, свежемазаный. Потом мы узнали, что глиняный пол не моют - его подметают веником. А ещё мы научились его мазать. Это надо делать несколько раз в год. Разводят водой глину до консистенции густой сметаны, добавляют свежего коровьего навоза (кизяка), хорошо перемешивают и этой массой тонким слоем покрывают пол (как паркет воском). Когда масса высыхает, пол долго не пылит и не пачкает одежду, даже если на него сесть.
Дом, в котором мы теперь жили, выглядел довольно странно: одноэтажный, длинный, с плоской крышей. С торцевой стороны были невысокое крыльцо и дверь в коридор, куда выходил десяток дверей, одна из них - наша. Назывался этот дом "барак". Барак был разделён на две части: в одной половине - комнаты, где жили семьи, в основном русские и украинцы, в другой - большое пустое помещение с двумя длинными лавками: место, где проходили собрания, оно называлось "красный уголок". Русские во время собраний сидели на лавках, киргизы - на полу, поджав ноги. Киргизы не любили сидеть на стуле: "Я не собака, чтобы на заду сидеть". В посёлке стояло всего два дома: наш барак и дом с черепичной крышей - контора. В здании конторы ещё была квартира управляющего отделением. В некотором отдалении стояло множество юрт: там жили киргизы - один из кочевых киргизских родов, "посаженных" на постоянное место. Бригадиром у них работал бывший глава рода по имени Сосонбай.
Чуть-чуть осмотревшись, мама сразу пошла в контору, а мне разрешила гулять, со строгим наказом далеко не отходить и к ней в контору не забегать. И ничего не бояться - всё страшное позади. Мама вернётся к вечеру, когда закончится рабочий день.
Барак я уже разглядела и пошла на улицу. Зрелище мне открылось поразительное: плоская, как ладонь, рыжая степь, а среди степи - два дома, россыпь юрт и совсем близко на юге - горы. Горы были высокие, какие-то хищные, с острыми снежными вершинами, с тёмно-синими и рыже-серыми крутыми склонами. Цвет склонов менялся в зависимости от положения солнца и, конечно, времени года. И ни одного деревца. Только вдоль арыка, пересекающего степь с юга (с гор) на север (к центральной усадьбе), - пирамидальные тополя.
Дорог в нашем понимании в степи нет - куда хочешь, туда и езжай. И только редкие автомашины идут строго слева вдоль арыка - так короче. И совсем не видно людей. Никого.
- Я ничего не боюсь. Мне не страшно. Я не боюсь, - уговаривала я сама себя.
Я не боялась, только почему-то было холодно спине и очень щекотно в животе.
Я медленно пошла к юртам. И вдруг меня окружила толпа ребятишек, чумазых, узкоглазых, черноволосых и очень горластых. Они что-то громко кричали, показывали на меня пальцами, хватали за платье. "Кыз, кыз бала, кыз бала", - начала различать я слова.
"Дразнятся". (Откуда я могла знать, что по-киргизски это всего лишь "девочка, маленькая девочка"?) Слегка защипало глаза. Но плакать нельзя - а вдруг придётся драться? ("В драке всегда проигрывает тот, кто первым заплачет", - говорил мне папа.) Я сжала кулаки и набрала в грудь воздуха. И вдруг - гортанный возглас. Ребята - врассыпную. Рядом - верхом на рыжей лошадке - человек. Киргиз. Уважающий себя киргиз не ходит пешком. Он всегда на лошади.
Улыбается. "Ак бала, кант бала" (белый ребёнок, сахарная девочка). Поднял меня, посадил перед собой и отвёз к конторе - шагов, наверное, сорок. Поставил на землю и уехал к юртам.
Так, с его лёгкой руки, и звали меня потом киргизы: кант бала - сахарный ребёнок.
Солнце стояло уже довольно низко. Горы стали тёмно-фиолетовыми, а мамы всё не было.
В барак прошли люди; пригнали стадо коров; женщины с вёдрами куда-то ушли. Из степи мимо нашего дома важно проследовало несколько утиных стай. Утки завернули за дом и исчезли из виду.
Все были чем-то заняты. А мама всё не возвращалась.
К конторе подъехал знакомый киргиз, "кант бала!" - помахал мне рукой и вошёл внутрь.
Может быть, всё-таки нужно и мне пойти туда и поискать маму?
Из барака вышел очень красивый человек: улыбка во всё лицо, глаза синие-синие.
- Здравствуй, я Кравченко. Маму ждёшь? Она придёт после вечернего наряда. Иди пока домой. Я скажу, что ты её там ждёшь. - И ушёл в контору.
Странно. У мамы нет никаких нарядов, да и оба "знакомца" были одеты совсем обычно. И музыки не слышно. На маскарад не похоже. Очень странная вещь - здешний вечерний наряд.
Из труб в доме пошёл дым. Я открыла дверь в барак. В коридор из комнат доносились голоса, большинство дверей были приоткрыты, и вкусно пахло едой. Очень захотелось есть. Мы завтракали рано утром у Савелия и больше не ели. Опустив голову и не оглядываясь по сторонам, я прошла в нашу комнату. На столе, завёрнутые в тряпочку, лежали две привезённые утром лепёшки.
Мама, уходя на работу, сказала, что одну съедим вечером. Приоткрыв тряпочку, я понюхала лепёшку и слегка лизнула краешек. Очень захотелось откусить.
Стыдно есть в одиночку нашу общую еду. Заглянула в мешок с кукурузными початками. Откусить или отколупнуть зерно не получалось - очень твёрдо.
Там же есть тыква. Вкусная, сочная! Открываю другой мешок. Лежат. Большие, толстые и, вероятно, вкусные. Вот только вынуть тыкву из мешка не удаётся - тяжёлая очень. Пошире открыла мешок и вцепилась зубами в жёлтый бок. Зубы соскользнули. Наверное, надо ещё больше открыть рот, тогда получится. Увы. Тыква никак не откусывалась: зубы скользили по поверхности, оставляя на коре едва заметные следы.
Я не услышала, как вошла мама; я лежала на тыкве и пыталась её есть. "Господи. Господи, боже мой. Мой славный человечек, мой бедный, маленький голодный мышонок…" - прошелестело в воздухе.
Рядом стояла мама. Вот она здесь - моя мама. Она пришла, она дома, её никто никуда не увёз! У меня всё ещё есть мама, моя замечательная мама!
- Мамочка! - обхватив её руками, кричала я, захлёбываясь слезами. - Я не боялась, а все они ругали меня кыз бала, я не ела эти лепёшки, я их немножко лизала, и не отъедается тыква. И я не плакала… и я не трус… и я не жалуюсь… Вот…
Положив руку мне на голову, а другой слегка поглаживая по спине, мама улыбалась.
- Ну вот и славно. Сейчас мы что-нибудь придумаем, - прозвучал её спокойный голос. Мама, как всегда, улыбалась, но губы у неё почему-то дрожали. - Ты знаешь, оказывается, здесь нет магазинов - ближайший в Кара-Балты, и еды купить негде. И печку нам с тобой топить пока нечем, но у нас есть целых две лепёшки, и сейчас я разрежу эту тыкву, помоги-ка мне её вынуть. Ну что? Жив-жив, курилка?
- Жив-жив.
- Набрали воздуха, вздохнули, терпим. Всё хорошо.