- Когда глазами видят, Власович, тогда я для их вроде безвредная обезьяна. Свой, в общем. А тут прозвучало. Вот и не стали разглядывать, кто железой гремит. Хор-рошие зверюги, а? Вот про Индию сказывают, слон там есть. Или про Африку - жирафы и разные прочие бегемоты которые. По картинкам видел. Агромадные звери! Ну, а в России что? А в России, ребята, зубр. Тоже почище многих других. До слона, понятно, не дорос, зато телом каков, нравом! Умнющая голова!
- Что ж они выбирали в траве? - напомнил я.
- Лопухи трескали подряд, - сказал Телеусов. - Белокопытник, значит.
- И пырей. Особливо где молодой, - добавил Кожевников. - Еще, пожалуй, пахучий колосок не без удовольствия выхватывали. "Зубровник" называется.
Я спешил записывать. То была моя первая запись в особом дневнике о зубрах, который я начал вести. Первые записи о Кавказе, о встречах и событиях, многие из которых решали мою жизнь.
2
Вернулись к лошадям. Они еще издали увидели нас, вскинулись, тихонько заржали. Соскучились. Да и страшновато одним в таком дремучем месте, где и опасностями пахнет и разбежаться прытко нельзя, в горах ровных плоскостей нет: либо вверх, либо вниз, то отлого, то круто. И всюду острый камень.
- Теперь до вечера зубров не увидим. - Василий Васильевич говорил громко и с удовольствием: долгое воздержание в засаде ему надоело. - А что, если мы, Андрей Михайлович, ударимся покамест в скальный район, где туры, да посмотрим, как там?
Я согласился. Но Телеусов промолчал.
- Ты как, Власович? - спросил его егерь. - Не притомился, случаем?
- А я бы так, значит. Вы поезжайте к турам, посчитайте их, до вечера время есть, а я попробую зубриц с молодью выследить. Одному сподручнее, чем ватагой. Встретимся где же? Ну, вон у той круглой вершинки, там рододы много, медведи иной раз шастают. Не побоитесь?
Словом, мы разделились.
Туры не менее осторожны, чем зубры. Кто видел их глаза, скорее глазищи, похожие на прозрачные выпуклые линзы, тот догадается, что такими-то глазами можно увидеть всё и всех сразу. И спереди, и по сторонам, и чуть назад, на двести семьдесят градусов, если не больше. Нас они, конечно, увидели прежде, чем мы их, и спокойно ушли дальше к вершинам, тем более что уже напаслись и желали всего-навсего спокойно отдохнуть.
Мы долго кружили вокруг отрогов хребта, останавливались, разглядывали скалы в бинокль, но туры исчезли, словно их тут никогда и не было, хотя Кожевников уверял, что вчера засек три стада общим числом более полутора сотен.
Осерчав из-за такой неудачи, он предложил забраться на верх зубчатого хребта, одного из отрогов Бомбака, и сверху осмотреть окрестность, благо видимость все еще оставалась отличной.
Опять лошади оказались на ременных привязях в редком березняке, где травы хватало, а мы без поклажи, с одними ружьями, начали подъем и, пожалуй, через час оказались у гребня.
Осторожно высунулись. Я ахнул от удивления и страха.
Мы находились на вершине черной стены. С той стороны она почти отвесно уходила вниз саженей на триста и только потом выгибалась сперва наклонной осыпью, а потом и пологим лугом. Огромная голубовато-зеленая котловина, полная пихтарника, открывалась взору. С двух сторон ее сторожили хребты вроде того, на который мы взобрались. Они сближались в центре котловины и там, как Геркулесовы столбы, запирали долину. Чернел только узкий каньон. Должно быть, вход реки.
- Что за диво, Василь Васильевич?
- Чертовы ворота, так мы их зовем.
- А долина?
- Все Шиша, Андрей Михайлович, ее притоки, ее шалости. В тую сторону, - он показал рукой, - мы можем выйти на свой кордон, а вот в другую если, то будет проход на Умпырь, где ты уже побывал. Зубриный рай, туточки ни единой души нету. Какой, скажи, человек осмелится забраться в этакие дебри? Живи, зверь, без опаски, плодись, размножайся, если бес не заявится да не нарушит покой. Много ли таких местов по России?..
Сперва мы осмотрели ближние подступы. Туры оказались как раз под нами, на уступах. Разбросавшись среди камней, они безмятежно спали, угретые солнцем, откинув рогатые головы и смежив глаза. Белесые, с желтыми подпалинами бока их под цвет камня и освещенных скал - отличная маскировка!
Мы подсчитали туров. У меня вышло семьдесят три, у Кожевникова на одного больше.
- А ну, еще раз, - предложил я.
И опять у него получилось семьдесят четыре.
- Ты проглядел одного, Михайлович, - сказал егерь. - Глянь-ка вон на ту острую глыбочку. Что там торчит, видишь? То рога у сторожевого. Он меж двух камней укрылся, не спит, а зырит на три стороны. А рога-то не спрячешь, видны. Он и есть семьдесят четвертый. Вверх этот сторож поглядеть не желает, потому как считает место недоступным даже для рыси. И ошибается. Кто-то другой его отсюдова как раз и сымет пулей за милую душу, потому как сажен двести тут не наберешь.
- Кто же другой?
- Про Лабазана забыл? Это бесовское отродье сколь годов кровь нам портит.
Мы укрылись за хребтом, присели, и Кожевников взялся крутить цигарку. Закурив, он спросил:
- Тебе про него сказывали?
- Не раз слышал. Главный злодей для зубров. Хочу найти его.
- Что главный - это точно. Сколько помню, лет восемь назад, он начал промышлять здеся. За множество этих лет Лабазан и его напарник убили восемнадцать, а то и все двадцать быков. Сам, сказывают, хвастал во хмелю. А уж другого-прочего зверя…
- Кто же у него второй?
- Был такой. Умер он летось. Лабазан сам похоронил в какой-то пещере. И в той похоронной пещере сложил, как толкуют, десяток зубриных черепов. Есть такая примета у осетин и лезгин: зубриные черепа должны украшать алтарь для ихнего бога и могилу храброго джигита. Тогда это место почитается.
- Лабазан-то кто такой?
- Лезгин вроде бы. У него еще фамилия есть. Башкатов, кажись.
- А тот, что умер?
- Тот русский. Бродяга из солдат. Всю свою жизню провел в горах, тут и остался. По фамилии Беляков. Дикий, в общем, человек. Так вот, погляди на ту гору, что с востока к Чертовым воротам подступает. За ней Лаба-река. Лабазан выслеживает зубров у солонца, ну и бьет на выбор, а потом неделями пирует да мясо себе впрок вялит. Даже в Лабинск захаживает, вот какой отчаянный.
- Сколько же ему того мяса надо?
- Считай, половину бросает. А из шкуры родильные пояса делает. В аулах роженицам их продает, будто бы помогает. И рога на кубки полирует, а как спускается в свои аулы, так эти кубки у него нарасхват. Князья берут, в золото-серебро отделывают, хвастаются.
- Меня уже стращали этим Лабазаном.
- Не Чебурнов ли?
- Он самый.
- Ну, скажу тебе, он непременно донес Лабазану, что появился, мол, человек, офицерского чину и хочет с ним повстречаться, словом и законом попугать да силой - глазом вострым помериться. Я так думаю, что Семен с лезгином имеет встречи, а может, и на зверя наводит. Ему бы только деньги. Или от испуга заигрывает. Лабазан следопыт, конечно, редкостный, стрелок первоклассный. И винтовка у него что надо. А ты в самом деле хотел бы с ним сойтись?
Я кивнул. Как же иначе? Если взялся охранять зубров и проведал браконьера, то уж, конечно, обязан обезвредить злодея. Или уговорить, чтобы убрался отсюда. В общем, вплоть до стрельбы. Враг зубров - мой личный враг.
- Тогда послушай меня. Одному тебе, Михайлович, Лабазан не под силу. Один не ходи. Двое, трое еще что-нибудь сделают, но не один. А уж раз мы с тобой забрались в эти края, могу указать место Лабазанова притона, уж это я как-нибудь выведал. Гору видишь? Вон та самая, вершина у нее на гнилой зуб похожая, вроде острые клыки вылезают, а уж пропасти там - глянуть страшно. Пещера, по всем видам, не одна, вся гора дырявая, есть которые и проходные, а вот обитает он на склоне, сюда обращенном, и не так чтобы высоко, пожалуй, в поясе букового леса. Там кустов поболее; дыму от костра не увидишь. Годов пять назад мы за Лабазаном охотились. Всех перехитрил и обвел вокруг пальца, а одному егерю из Закана ночью винтовку своей повязкой повязал, дал понять, значит, что Лабазана выследить нельзя.
Еще какое-то время мы рассматривали в бинокли эти дикие места, но дымка не углядели. Не заметили и в той стороне ни одного животного на склонах или полянах. Зверь опасное место знает.
Часам к пяти спустились к лошадям и другим маршрутом поехали вниз, поближе к намеченной для встречи вершинке. Легкий день долгий, в семь солнце сияло еще вовсю. Спешились, повалялись в траве, ожидая Телеусова. Вскоре небо на западе покраснело, вечерняя заря разлилась. Алексей Власович явно припоздал.
- Мы сами отыщем зубриц, ежели что, - сказал Кожевников. - Идем?..
С конями в поводу мы зашагали к тому месту, где Василий Васильевич недавно обнаружил стадо с молодняком.
Неглубокий распадок, заросший березой и высокогорным кленом, выползал из дремучего леса к буграм с высокотравными лугами. Посредине распадка проглядывалась натоптанная многочисленными копытами тропа. Зубриная дорога выходила на луг, манящий сочной и густой травой.
Мы не стали пересекать эту годами натоптанную тропу, чтобы не смущать чуткого зверя запахами лошадей и железа, а удалились на высотку с густым и черным рододендроном, откуда хорошо проглядывался весь пологий луг.
Звери появились не так, как самцы, а с еще большей осторожностью, словно жизнь этих семейств оценивалась вдвойне дороже против жизни самцов. В сущности, так оно и было: ведь почти каждая зубрица вела за собой если не малыша, то второгодка, а кроме того, в стаде были и будущие матери и старые зубрицы, уже не способные рожать, но полезные своим опытом, навыками долгой жизни.
Они-то и возглавляли несколько семейств.
…Из лесного распадка сперва вышла старая зубрица, постояла, прислушалась, помахала хвостом с кистью на конце и спокойно пошла дальше. Только после этого на лугу появились еще две старые коровы, одна с обломанным рогом, другая припадающая на заднюю ногу. Это был осмотрительный, бесконечно опытный авангард, он обследовал и устанавливал безопасную зону.
Убедившись, что вокруг тихо и спокойно, коровы склонили морды к траве и тем дали знак основному стаду. Звери высыпали на луг.
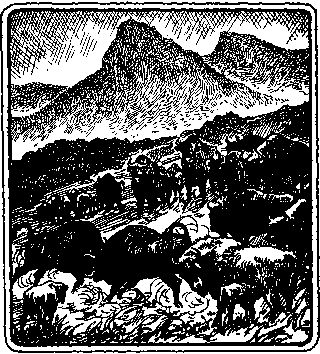
По краям, спереди и сзади пошли зубрицы и прошлогодняя молодь. А в центре, словно кучка ребятишек, толкались зубрята этого года, телки и бычки. Им, конечно, не терпелось побегать, пободаться друг с другом, а тут такая теснота, что только-только проход вперед. Не разбежишься, когда по сторонам строгие мамки, пресекающие всякую попытку вырваться из окружения.
На просторе стадо понемногу рассыпалось. Но ведущая, та самая зубрица, что вышла первой, все время сердито оглядывалась и никому не давала опередить себя. Зато молодежь, похрустев травой первые десять - двадцать минут и выклянчив у мамок немного молока, с беспечностью сорванцов, хотя и были уже бородаты и проглядывали у них тупые черные рожки, начали беготню. Задрав хвост, они подкидывали зад, толкали друг друга, задевали старших и опрометью убегали от них, останавливались, хватая открытым ртом воздух, и снова принимались за игры. Где же еще, как не на просторном лугу! Дни проходят в густом лесу, ночью спать нужно, только зори и остаются для игрищ. Так уж наверстаем на заре!
Доставили они хлопот своим мамкам, старухам-охранительницам и сестрам!
Как только стадо разбрелось слишком уж просторно, старая зубрица приняла меры. Крупным шагом пошла она по кругу, словно бы очерчивая допустимые границы; коровы и подростки, оказавшиеся за пределами этих границ, отлично поняли, что от них требуется. Старуха поддала рогами одну ослушницу, сильно толкнула другую, а далее все уже шло по закону сильнейшего. Как только вожатая приближалась, все животные, забредшие дальше положенного, опрометью кидались к центру. Стадо уплотнилось. Теперь и телятам стало трудней бегать, пришлось пастись, как это делали старшие. Дисциплина как будто установилась. И в это время мы оказались свидетелями схватки за место вожатой.
Большая, по виду сильная корова неожиданно остановилась на пути хозяйки стада, раздула ноздри и угрожающе нагнула морду. Лишь на одно мгновение вожатая задержалась, пораженная неслыханной дерзостью. Уже в следующую секунду раздался сильный удар рогов. Все зубрицы и даже малыши повернули головы и внимательно следили за ходом схватки. А соперницы, как заправские бойцы, уперлись лбами и старались сдвинуть друг друга с места. Из-под копыт летела влажная земля. То одной, то другой удавалось загнуть шею противницы и достать рогами бок. Но все удары приходились вскользь, иначе кровоточащие раны уже покрыли бы шкуры зубриц. Трещали, ломались кусты березки и рододы, в глазах коров горела ярость. Шла борьба за власть, за главенствующее место в стаде, борьба, возникающая, по-видимому, время от времени между сильными зубрицами.
Наконец вожатая сумела с такой ловкостью ударить рогами по передней лопатке противницы, что та упала на колени и, если бы не увернулась, второй удар распалившейся победительницы уложил бы ее на месте. Вывернувшись, зубрица побежала что есть силы, но не в стадо, а через кусты в лес. Более сильная некоторое время преследовала ее, затем вернулась и, шумно дыша, темная от пота, продолжила прерванное шествие по кругу, замыкая в нем своих подчиненных. Зубрицы поспешно уступали ей место.
- Куда же убежала слабая? - тихо спросил я Кожевникова и опустил бинокль, чтобы дать отдых уставшим глазам.
- Походит одна до темной ночи, забоится и вернется. В одиночку им нету жизни.
- Снова для битвы?
- Нет. Драки больше не будет. Кто сильней, тот и вожак. Все стадо видело, как старуха победила. Она и останется у них главной. До схватки с какой-нибудь другой.
Быстро темнело. Зубрицы и малыши паслись теперь с жадностью, словно чувствовали, что скоро придется уходить. Уже не баловались маленькие, они всё чаще тыкались в ноги матерям, отыскивая вымя. Не получив разрешения, обиженно ложились. Авось пожалеют. Срезая траву, матери передвигались, и телята вставали, выбрасывая вперед слабые ножки, догоняли их и опять ложились.
Пала ночь. Стадо виделось в бинокль совсем смутно, но мы дважды успели пересчитать зверей: двадцать две мамки с телятами, шестнадцать двухлеток и семь старых, без телят. Всего шестьдесят семь голов. Значит, здесь, в нижнем и среднем течении Киши, проживало без малого сто голов. С быками.
- Одиночки бывают? - снова спрашиваю у егеря.
- Редко. Самцы за власть подерутся, слабый уходит иной раз насовсем, чтобы не сердить вожака. Но долго один не проживет. Или новое стадо отыщет, или погибнет.
- От пули охотника?
- Не токмо от пули. Сорвется с кручи. А то в реке утонет. Они отчаянные, идут в воду хоть бы что и не подумают, широко ли, глубоко. Ну, и случается, собьет течением и унесет. Весной в лавины попадают или опять же в реку. Ты, наверное, видел, как в снежную зиму наметает горой на лед, вроде мост получается из снега, а вода теплая, она лед подпарит, мост и повиснет еле живой. Зубр шагнет - и пропал. Когда в стаде, там без вожака не больно разбежишься, а вожак всегда осторожный, не пустит куда попало. Так что одиночкам у них жизнь недолгая.
Черная темь укрыла поляну и горы. Зубрицы ушли по своему распадку в лес, на солонец времени у них не хватило. Утром отыщут, конечно.
3
Мы подождали еще, не подаст ли голос Телеусов.
- Уж не беда ли какая? - Я начал беспокоиться.
Кожевников ответил:
- Не бойся. Беды нету. Когда опасность, он стрельнет, винтовка при ём. А звук в горах далеко идет. Просто ушел в сторону, это бывает. Или какое интересное дело задержало. Подождем на условленном месте до утра. Не заявится, тогда тронемся на кордон. Там он весточку нам оставит. А то сам объявится.
Чтобы не беспокоить близкое отсюда стадо зверей, мы взяли своих лошадей на потайки и прошли краем луга, стараясь держаться по-над ветром. Версты за две до зубриного выпаса спустились в пихтовый лес и устроили тут небольшой костерок. Попили чай да и легли спать, поплотней завернувшись в плащи. На верхотуре даже в разгар лета ночи холодные и мокрые.
Открываю утром глаза - приятеля моего нету. На костер свежие ветки набросаны, горят, и котелок подвешен. Посмотрел сквозь куст лещины - обе лошади мирно пасутся на взлобке. Где Кожевников?..
Накинув телогрейку на плечи, я поднялся к границе луга. Вижу, стоит мой друг, спиной к березе прислонясь, и ждет, когда из-за лесистого увала выйдет солнце. Такое мгновение… Яркий свет уже играл на высотах, искрил снега на трехтысячниках, а луга еще в предрассветной тени, стылые, отяжелевшие от холодной росы. Бородатое лицо егеря приподнято, руки за спиной. И так смотрит на близкие вершины, на небо, словно молитву творит. Не моргнет, губы полуоткрыты. Миг человеческого блаженства.
Солнце вывалилось из-за бугра, и вершины у черных пихт враз приобрели живую зеленую окраску. Оранжевое пламя загорелось на крупных шишках. Яркий до ослепления, немного сплюснутый шар солнца приподнялся над лесом, стараясь заглянуть во все ущелья. Вниз и в стороны с неба в мокром воздухе протянулись видимые лучи. Как многорукое чудо, солнце опиралось этими лучами на вершины деревьев, на скалы, приподымалось и скоро достигло лугов. Вот уж где вспыхнуло многоцветье! Ковер самых изысканных форм и цветов загорелся под косыми лучами ярко, пышно и весело. Сияли росинки, они алмазно вспыхивали на каждом лепестке. Мелюзга колокольчик, всего-то вершок от земли, а и тот стал похожим на отшлифованный лазурит - так светился, так играл в нем проворный лучик света!
Стою, молчу, наблюдаю за рождением прекрасного дня, за Василием Васильевичем. В голову мне приходит догадка, почему многие лесники и егеря так благоговейно чтут природу. Именно в такие вот мгновения рождается радость, способная вытеснить из головы всё наносное и злое. Мир прекрасен, и нет ничего лучше, радостней, чем природа, это создание завершенного царства живого. Понимаю, что не только на Кавказе можно поклоняться красоте. Она всюду. Только нужно ее видеть. И все же на Кавказе, где три великих начала - красота, целесообразность и мощь - как бы приподняты над обыденностью ближе к небу, это чувство поклонения совершенству особенно велико. Лишь тот, кто побывал здесь, мог написать "Демона", "Кавказского пленника" и "Хаджи Мурата". Единение с природой…
Но вот солнце осушило луг, росинки изошли паром, а красота, теперь уже новая, дневная, привычная, осталась с нами. Заметно потеплело. От скал и камней все еще шел пар. Я крикнул:
- Чаевать, Васильич!
Он вздрогнул, нахлобучил фуражку на непокорные свои космы и спустился к костру.
Сидел молчаливый, улыбался про себя и вздыхал. Еще не освободился от переполнявшего его восторга.
- Так что, на Кишу тронемся?
- Иде его носит, шалого? - Это он уже про Телеусова. - Смотри-ка, и на ночь не пришел. Теперь потопаем на кордон, какие там вести от него оставлены.
Вести на кордоне были. С внутренней стороны двери висел листок, приклеенный хлебным мякишем: "Ночевал здесь, утром подался к дому, потому как веду пленника".
И все. Какого такого пленника? Уж не самого ли Лабазана заарканил?
Настроение у нас поднялось. Главное, жив-здоров, шагает к поселку. Там, значит, и встретимся, а может, успеем догнать на полпути.