* * *
Когда мы добрались до Мэрисвилла, примерно к обеду, мы нашли там дом, снятый для нас Эрни Эко, – за Бумажной фабрикой Балларда, за сортировочной станцией, за целой кучей каких-то складов и старым баром, куда заходили только очень хмурые люди. Дом оказался меньше того, который у нас был, так что мне, как раньше, пришлось поселиться в одной комнате с братом – а для Лукаса, если бы он вернулся домой, и вовсе не нашлось бы комнаты. Брат сказал, что он готов спать на диване в гостиной, только бы не жить вместе с такой вонючкой, как я, но отец ему запретил. Сказал, нечего болтаться на виду, как будто он тут главный. И брат потащил свои шмотки ко мне.
Просто блеск.
Первым делом мне надо было найти место, чтобы спрятать куртку, пока брат не узнал, что это куртка Джо Пепитона. Если б он это знал, то сорвал бы ее с меня еще до того, как мы проехали мост через Ист-ривер. Но рано или поздно он все равно узнал бы. Так бывало всегда. Поэтому я не снимал ее, хотя мой приятель Холлинг Вудвуд ошибся: в Мэрисвилле оказалась жарища не хуже, чем на Лонг-Айленде, и я так взмок, что боялся, как бы не смыть своим потом имя Джо Пепитона.
Отец сказал, что поедет с Эрни Эко на Бумажную фабрику Балларда, чтобы подписать там какие-то документы и начать работу с понедельника, а мать сказала, что фабрика вряд ли будет открыта сегодня, в субботу, а отец сказал, много она понимает, и уехал с Эрни Эко. Поэтому мы с братом затащили в дом всю мебель, а потом я занес туда все ящики, кроме тех, что были с кухонным хозяйством, – их мать велела оставить в кузове, пока она не уберет кухню, чтобы нормальный человек мог поесть там, не боясь, что его стошнит. Не успела она закончить уборку, как отец вернулся.
И день оказался неудачный. Опять. Конечно. Отец никак не мог понять, почему мать не привела кухню в порядок. Никак не мог понять, почему мы не вытащили из фургона ящики с кухонным хозяйством. Никак не мог понять, почему мать еще не купила продуктов. Ей всего и надо-то было что дойти до "Спайсерс дели"! Он никак не мог понять, почему стол еще не накрыт к обеду. У нее ведь хватило времени, чтобы повесить на стенку распятие, а чтобы сделать пару бутербродов, видите ли, не хватило! Притом что на часах уже два! А чего он уж совсем никак не мог понять – так это почему мистер Толстосум Баллард назначил ему жалованье чуть ли не вдвое меньше того, про какое он слышал от Эрни Эко.
Я сказал ему, что обед еще не готов, потому что откуда нам было знать, где здесь "Спайсерс дели", и к тому же он все равно забрал нашу машину, а матери надо было убрать на кухне, потому что он сам точно не захотел бы есть на такой помойке.
Отец повернулся, чтобы посмотреть на меня, а потом передо мной что-то мелькнуло – его рука.
А рука у него, как я уже говорил, тяжелая.
– Почему бы тебе не остаться здесь в своей новой куртке и не перетаскать все остальные ящики в чистую, только что убранную кухню, пока мы ищем кафе? – сказал он и велел матери садиться в машину, и брату тоже.
Брат ухмыльнулся и вскинул кулак, как будто собирался подбить мне второй глаз, – а потом они уехали и я остался один в нашей новой Дыре.
Тогда я пошел в подвал и огляделся. Его освещала одна-единственная лампочка, ватт на пятнадцать. А может, на десять. Топка, будто огромный осьминог, разлапилась почти по всему потолку, и на ее щупальцах висела паутина, которая подлетала вверх, когда я под ней проходил. Под лестницей было пусто, темно и сухо – я увидел там несколько старых банок из-под краски, поставленных друг на дружку, пару сломанных оконных рам и что-то дохлое с клочками шерсти. Я пошарил вокруг, нашел гвоздь – в старом подвале всегда можно найти гвоздь – и прибил его сзади к одной из ступенек. Туда я и повесил куртку Джо Пепитона.
Потом я вытащил из фургона все оставшиеся ящики.
А после этого отправился исследовать славный город Мэрисвилл, штат Нью-Йорк.
Просто блеск.
Вот весь тупой Мэрисвилл в цифрах:
Восемь задрипанных складов и бар неподалеку от нашего дома.
Четыре квартала таких же маленьких и жалких домиков, как наш.
Двенадцать кварталов с домами, перед которыми росла трава, и на многих из этих лужаек валялись детские велосипеды, как будто их хозяева были совсем тупые и не понимали, что их может утащить кто угодно.
Большие деревья по обочинам всех улиц.
Восемнадцать домов с флагами снаружи.
Двадцать четыре включенных оросителя.
Четырнадцать человек, сидящих на крылечках, потому что в этом придурочном Мэрисвилле нельзя заняться ничем поинтереснее. Двое помахали мне. У одного работал приемник – только он слушал не бейсбол, а какую-то тупую оперу.
Две спящие на крылечках собаки. Одна полаяла. Другая, по-моему, даже хотела за мной погнаться, но поленилась из-за жары, хотя и поняла, что я здесь чужой.
Мимо проехала девчонка на велосипеде, с корзинкой на руле. Она посмотрела на меня примерно как те собаки и покатила дальше. Тоже, наверное, поняла, что я чужой.
Ненавижу этот гнусный городишко.
И надо же было нам сюда притащиться!
Я решил свернуть налево и пойти обратно через другой квартал, чтобы люди не думали, что я потерялся или еще что-нибудь. Повернул за угол, на другую улицу. И снова увидел ту же девчонку: она ставила свой велосипед в стойку и собиралась зайти в кирпичное здание, которое старалось выглядеть очень солидно, но толку от этого было немного, потому что как бы оно ни пыжилось, вокруг него все равно оставался этот тупой Мэрисвилл.
Я пересек улицу, как делал до этого уже миллион раз. Под кленами перед зданием была тень.
Девчонка увидела, как я подхожу. Она полезла в корзинку и достала оттуда велосипедный замок в розовом пластике. Не успел я дойти до тротуара, как она уже пристегнула велосипед к стойке и перекрутила колесики с цифрами, чтобы сбить правильную комбинацию. Потом она посмотрела на меня.
Я показал на замок.
– Меня, что ли, боишься? – спросил я.
– А что, надо? – ответила она.
Я оглядел велосипед.
– Очень мне нужно такое барахло, – сказал я. – А если б он был нормальный и я его захотел, то с твоим розовеньким замочком уж как-нибудь справился бы.
Она повернулась и вынула из корзинки несколько книг.
– А есть что-нибудь, чего ты хочешь?
– Не в этом городишке.
Ее глаза сузились. Она прижала книги к груди – как мать свои растения. И тут я кое-что понял.
Вот что я понял: я веду себя как Лукас в те минуты, когда он выглядел полным уродом, что обычно бывало прямо перед тем, как он пускал в ход кулаки.
Ну в точности как Лукас.
– Ты, наверное, только что сюда переехал, – сказала она.
Я решил, что больше не буду Лукасом.
– Пару часов назад, – ответил я. Засунул руки в карманы и вроде как оперся спиной о воздух. Этак спокойно и небрежно.
Но я опоздал.
– Жалко, – сказала она. – Надеюсь, ты попадешь под машину, и тогда мне больше не придется пристегивать велосипед. А сейчас я пойду в библиотеку. – Тут она заговорила медленно-медленно. – Библиотека – это место, где хранятся книги. Ты наверняка ни в одной не был. – Она показала на улицу. – Иди туда, закрой глаза и топай по прерывистой белой линии. Посмотрим, что получится.
– Я сто раз был в библиотеке, – сказал я.
Она улыбнулась – это была совсем не та улыбка, которая говорит "ты мне нравишься", – и взбежала по шести мраморным ступенькам к мраморному входу. Знаете, как я хотел, чтобы она споткнулась на последней ступеньке, и ее книги разлетелись бы во все стороны, и она посмотрела бы на меня, как будто спрашивая, не помогу ли я ей, а я и не подумаю, хотя, может, и подумаю?
Но она не споткнулась. Она вошла внутрь.
Допустим, я и правда ни разу не был в библиотеке – ну и что? Что с того? Да если б я захотел, я в любую мог бы пойти. А не ходил просто потому, что не хотел. Зато я был на стадионе "Янки" – а она, по-вашему, там была? По-вашему, это у нее в подвале висит куртка Джо Пепитона?
Я поднялся по шести ступенькам – и она не видела, как я споткнулся на последней, а значит, это не считается. Толкнул стеклянную дверь и вошел.
Внутри было сумрачно. И прохладно. И тихо. Может, этот тупой Мэрисвилл и дрянь городишко, но тут все было по-другому. Мрамор снаружи вел к мрамору внутри, и когда вы входили, ваши шаги отдавались эхом, даже если вы были в кроссовках. Люди сидели за длинными столами, под лампами с зелеными абажурами, и читали газеты и журналы. А дальше, сбоку, стоял еще один стол, за которым сидела библиотекарша – на шее у нее была цепочка, а на ней очки, – и работала, будто и знать не знала, как глупо выглядят очки на цепочке, повешенной на шею. А еще дальше начинались стеллажи, и где-то среди них, наверное, бродила та наглая девчонка – выбирала себе новую порцию книг, чтобы положить их в корзинку и поехать в свой уютный мэрисвилльский домик.
Вдруг я подумал, что не хочу снова попадаться ей на глаза.
Поэтому, увидев другую лестницу – тоже мраморную, – которая полукругом шла на второй этаж, я направился туда. Ступеньки у нее были гладкие и стертые ногами, словно много-много людей вроде этой девчонки поднимались по ней много-много лет. Даже латунные перила и те сверкали, отполированные их руками.
Ну и что, если каждый житель тупого Мэрисвилла ходит в эту тупую библиотеку каждый божий день? Что с того?
Я одолел всю лестницу и попал в большую, просторную комнату, где почти ничего не было. На стене висела картина – какой-то парень с винтовкой, которую он прижимал к груди с таким лицом, как будто у него видение или что-то вроде того. А посреди комнаты стоял квадратный стол с застекленной витриной сверху. Вот и все. Столько места – и больше ничего нет. Если бы пустить сюда моего отца, вы и чихнуть бы не успели, как тут очутилась бы гора инструментов и досок, и сверлильный станок, и токарный станок, и банки, и всякий другой хлам. На полу были бы опилки, на потолке паутина, а пахло бы железом и машинным маслом.
Я подошел к столу, чтобы посмотреть, почему здесь только одна эта дурацкая вещь на всю эту дурацкую комнату.
И сразу понял почему.
Под стеклом лежала книга. Огромная. Просто гигантская. На ней без труда уместилась бы хорошая бейсбольная бита. Думаете, я вру? И целую страницу занимала одна-единственная картинка. С птицей.
Я не мог оторвать от нее глаз.
Птица была совсем одна и выглядела так, как будто падала с неба прямо в холодное зеленое море. Крылья у нее вытянулись назад, хвост тоже, а шея была слегка изогнута, точно птица пыталась развернуться, но не могла. Глаз у нее был круглый, яркий и испуганный, а клюв чуточку приоткрыт – наверное, потому, что она хотела успеть глотнуть воздуха перед тем, как рухнуть в воду. Небо вокруг нее было темное, и воздух казался слишком тяжелым, чтобы в нем летать.
Эта птица падала, и во всем мире не было никого, кто бы ее пожалел.
Это была самая страшная картина из всех, какие я видел.
И самая прекрасная.
Я навалился на стекло, поближе к птице. По-моему, даже задышал немножко чаще, потому что стекло замутилось и мне пришлось его вытереть. Но я ничего не мог с собой поделать. Черт, она была такая одинокая! И такая испуганная…
Крылья у нее были белые и широкие – сзади они заострялись, как стрелы. А перья хвоста между ними были еще острей, они сужались и сужались, как ножницы. Все слои ее перьев дрожали, и я почти что слышал, как они со свистом рассекают воздух. Я соединил пальцы, как будто держал в руке карандаш, и попытался обвести по стеклу эти хвостовые перья. Они были такие острые! Если бы моя рука дрогнула даже самую капельку, то картина была бы безнадежно испорчена. Потом я обвел по контуру крылья, и шею, и длинный клюв. А потом, под самый конец, – этот круглый испуганный глаз.
На столе рядом с витриной лежала карточка, на ней было что-то напечатано. Я сунул ее в задний карман.
* * *
Когда я вернулся домой, то увидел, что мать принесла из кафе два хот-дога, завернутых в фольгу. Внутри у них были кетчуп, и горчица, и кусочки маринованных огурцов, и квашеная капуста – все как на стадионе "Янки". Уж я-то знаю, потому что я там был, как вы могли бы помнить. Мать ходила среди ящиков и все еще прибирала на кухне, и нам было слышно, как отец внизу звенит своими инструментами и ругается. Он говорил, что мистер Толстосум Баллард – жмот, каких мало, но пусть он не думает, что может вертеть им как хочет, потому что за кого он его держит? За сосунка, что ли?
Ну нет, он нам не какой-нибудь сосунок, сказал он, когда вылез из подвала.
Он нам не какой-нибудь сосунок, сказал он, когда велел мне с братом отнести все наши вещи наверх и разобрать их, – а кончилось тем, что я отнес все сам, потому что брат не захотел.
Он нам не какой-нибудь сосунок, сказал он, когда крикнул снизу, чтобы мы прекратили бороться, выключили свет и легли спать, – хотя мы совсем не боролись, а просто брат хотел выяснить, куда я спрятал куртку, про которую он еще не знал, что она Джо Пепитона, и поэтому не слишком старался.
В тот вечер я лежал в темноте и рисовал в воздухе падающую птицу – ее крылья, раздвоенный хвост, длинный клюв. И глаз. Я рисовал их снова и снова, стараясь почувствовать, как ветер обдувает перья, удивляясь, как тот, кто ее нарисовал, смог это передать.
А потом заснул.
Ее испуганный глаз.
* * *
В воскресенье я проснулся и сразу понял, что сегодня будет один из тех отчаянно жарких дней, когда удивляешься, как на земле вообще осталось что-то живое. Солнце только встало, а комната уже накалилась. Если бы у нас были занавески, то они висели бы как мертвые.
Когда я спустился на кухню, мать была вся в поту: оладьи она сунула в духовку, чтобы не остыли, хотя духовка тут не очень-то работала, на сковородке у нее шипел бекон – слава богу, хоть одна конфорка горела, – а рядом стояла миска с болтушкой из яиц, причем надо было рассчитать все так, чтобы поджарить яичницу в жире от бекона, пока отец будет есть этот бекон с оладьями, и подать ее вовремя, а то он обязательно разозлится. Думаю, мать решила, что лучше уж попотеть, чем лишний раз нарываться.
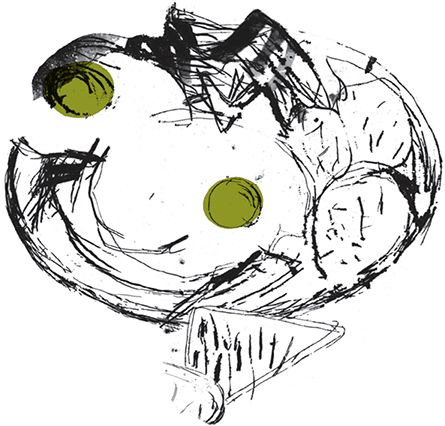
Я вышел, чтобы она не запуталась. Все вокруг было белым-бело и дышало зноем. Солнце поднялось еще не высоко, но все равно приходилось щуриться, и от этой ослепительной белизны по телу разливалось тоскливое чувство, когда понимаешь, что день предстоит долгий, унылый и тягучий, и надо бы найти где-нибудь бассейн, и как это будет здорово, когда в него плюхнешься.
Хотя в этом тупом Мэрисвилле небось и бассейна-то нет.
Я подождал у задней двери. Солнце палило все сильнее, а я смотрел на плотно утоптанную землю во дворе и удивлялся, как сквозь нее умудрились пробиться жалкие ростки сорняков. Я ждал, когда отец позавтракает и уйдет куда-нибудь с Эрни Эко. Ждал, когда брат спустится на кухню, доест остатки оладий и тоже уйдет – скорее всего, с кем-нибудь, кто уже стоит на учете в полиции. Подождав как следует, я вернулся в дом. Мать сложила газету в несколько раз и подсовывала ее под шаткий стол.
– Ты был на солнце, – сказала она.
Я кивнул:
– Там уже жара.
– Сделать тебе яичницу?
Я покачал головой:
– Сам сделаю.
Я выпустил на сковородку два яйца. Жир от бекона был еще горячий, и они быстро начали поджариваться.
– Как думаешь, тебе будет здесь хорошо? – спросила мать.
Яйца белели на глазах.
– Наверное, – сказал я. – Не хуже, чем в любом другом месте. А тебе?
– Мне? – отозвалась она. – Не хуже, чем в любом другом месте.
Она вылезла из-под кухонного стола.
За такую улыбку, как у моей матери, передрались бы все голливудские актрисы. Думаете, я вру? По-вашему, Элизабет Тейлор умеет улыбаться? Да если б вы увидели улыбку моей матери, вы бы Элизабет Тейлор и в одну комнату с ней не пустили.
А если бы улыбку моей матери увидел Джо Пепитон, он отказался бы ради нее от бейсбола. Вот какая чудесная у нее улыбка.
Она приготовила нам гренки, а я порылся в еще не разобранных ящиках, которые так и стояли на кухне, и нашел баночку с клубничным джемом. К тому времени желтки у яиц совсем затвердели, но кого это волнует? Мы с ней съели по одному и поделили гренки, а потом тихонько посидели, хотя и в доме становилось все жарче, – я посматривал на нее и думал, смогу ли я когда-нибудь нарисовать ее улыбку, такая она была чудесная.
Я заметил, что моя рука шевелится, будто прикидывая, как это можно сделать. Но это было все равно что пытаться нарисовать перья той птицы. Я чувствовал, что мои пальцы движутся не так, как надо. Я знал, что они движутся не так, как надо.
После завтрака мы вместе убрали со стола. Потом вынули из ящиков все тарелки, кастрюли, крупы и так далее и разложили их по полочкам (стопку разбитых тарелок я вынес, даже не развернув). Тем временем температура в кухне поднялась градусов до ста, но когда мы оглядели кухню, то убедились, что все в ней устроено точно так, как она хотела, и когда я сказал: "Вот не думал, что когда-нибудь попаду в комнату, где можно пожарить яичницу прямо в руке", – она подошла к раковине, набрала полный стакан холодной воды и выплеснула его прямо на меня. Думаете, я вру?
Честное слово.
Потом она снова улыбнулась и засмеялась, и я тоже засмеялся, взял другой стакан и подставил его под кран, и она сказала: "Дуги, не вздумай…" – но я все равно окатил ее водой, и она стала смеяться еще громче, пока не начала всхлипывать, и тогда мы оба засмеялись еще сильнее, и она опять наполнила стакан, и я тоже, и скоро у нас под ногами хлюпало и везде висели капли.
И тут домой пришел отец вместе с Эрни Эко.
Мать посмотрела на отца, потом открыла шкафчик и достала банку с мелочью. Она дала мне несколько монеток и велела купить галлон молока – на самом деле оно у нас и так было, но я отлично понял, что к чему. Я вышел через заднюю дверь, пересек плотно утоптанный двор и исчез раньше, чем случилось то, что должно было случиться.
* * *
Ночью я все слышал сквозь картонные стены. Наша Дыра – вовсе не такая помойка, как он говорит. Ну и что, если Эрни Эко видел нашу мокрую кухню? Что с того?
Я лежал в темноте, брат на нижней койке храпел, как уголовник, а я думал о чудесной улыбке моей матери. Может, она когда-нибудь отведет меня на стадион "Янки".
Я снова почувствовал, как движутся мои пальцы, стараясь уловить линии этой улыбки.