"ПРИСУТСТВОВАЛИ: секретари правления Союза писателей СССР: тт. Г. М. Марков, Л. С. Соболев, К. В. Воронков, В. М. Кожевников, В. М. Озеров, Б. С. Рюриков, К. Н. Яшен, С. А. Баруздин, С. В. Сартаков, В. П. Тельпугов, секретарь парткома В. А. Сутырин, секретарь правления Московского отделения СП РСФСР В. Н. Ильин.
В обсуждении этого вопроса приняли участие все товарищи, присутствующие на заседании".
Вел мое дело оргсекретарь Воронков К. В. Говорят, он появился среди писателей во время эвакуации архива, да так и прижился. Холеный, пожалуй, даже красивый, стриженный под полубокс, он, несмотря на белые нейлоновые сорочки, казалось, был всегда одет в ежовскую гимнастерку. Властью обладал огромной, перед ним пресмыкались. Этого ему оказалось мало, он возомнил себя художником слова и даже сделал себя лауреатом премии Ленинского комсомола в области литературы. Газеты называли его крупным советским писателем.
"Как вы смели оскорбить нас?! Кого вы имели в виду под руководством Союза, кто это из нас не считает писателей за людей?! Может быть, меня вы имели в виду?!" - картинным жестом вопрошал Воронков.
"Да, вас", - признался я.
"Крупный писатель" оторопел. Было душно, белая рубашка его прилипла темными пятнами, будто и правда под ней просвечивала поддетая гимнастерка. В сердцах он выскочил из кабинета. До конца своей власти Воронков оставался моим мстительным врагом.
Приняли постановление:
"Секретариат осуждает недружелюбный, нетоварищеский, построенный на предвзятости подход А. Вознесенского к деятельности Союза писателей в области международных писательских связей, а также ни на чем не основанный оскорбительный тон письма по адресу Союза писателей и его правления. Секретариат резко порицает поведение А. Вознесенского.
Отметить, что решение Секретариата о нецелесообразности поездки А. Вознесенского в США было правильным".
Часть секретарей упивалась проработкой, унижала. Другие выступавшие чувствовали себя неловко, говорили через силу. Главным образом осуждали, как записано в протоколе, "способ выражения своих претензий путем рассылки письма сразу во многих копиях и затем недопустимо небрежное отношение к документам столь острого политического значения, в результате чего эти документы становятся известными враждебной буржуазной пропаганде". Сдержаннее всех говорил Б. С. Рюриков, тогдашний редактор "Иностранной литературы". Позднее, когда прессинг достиг апогея, он заказал мне статью о переводах Пастернака и напечатал в январском номере.
Удавалось ли общественности изменить участь осужденных? Е. Г. Эткинд в своей книге о процессе И. Бродского описывает вмешательство многих знаменитых и безвестных писателей, в числе прочих он называет и мое имя. Заступались тогда многие, но решающим было подвижничество Ф. Вигдоровой, К. Чуковского и С. Маршака, им и удалось вызволить поэта раньше срока из ссылки в северную деревню. В других случаях, как, например, в освобождении Н. Ахметова, может, и моя помощь сыграла роль. Мы впервые увиделись с ним уже в Роттердаме, на Фестивале, где он подарил мне свои стихи с прочувствованной надписью. Если мне, казалось, было трудно, то как же пришлось тем, по кому били прямой наводкой?
Ну, а вечер мой в Линкольн-центре состоялся без меня. Звучали записи моих стихов. Старейший поэт Стэнли Кюниц, срываясь на хрип, произнес речь протеста. Прессинг нарастал. Я написал стихотворение "Стыд" и прочитал его со сцены на 200-м спектакле "Антимиры".
Нам, как аппендицит,
Поудалили стыд…
Тогда "Литературная газета" 6 сентября 1967 года по велению сверху напечатала в черной рамке материал одновременно против моего письма в "Правду" и стихотворения "Стыд".
"…буржуазная пропаганда использовала его для очередных антисоветских клеветнических выпадов. А. Вознесенский имел полную возможность ответить на выпады буржуазной пропаганды. Он этого не сделал…" - это было от редакции. А следом аноним, прикрывшийся инициалами, стращал:
"Отчет о вашем выступлении и ваша фотография были помещены в газете "Нью-Йорк таймс"… Глаза ЦРУ будут гипнотизировать вас, будут показывать вас по телевидению, будут мягко стелить вам постель, предоставлять в ваше распоряжение красивейших женщин… Америка сильна в подкупах, коррупции… цепкие руки…" Ключевой фразой было: "ЦРУ обожает вас!" Автор уверял меня, что в советской прессе свободы куда больше, чем в американской. Последняя фраза этой заметки нашла в моем письме "душок Светланы". Имелась в виду С. Аллилуева, которая накануне стала невозвращенкой.
Такое печатное обвинение восходило к лучшим традициям. Публикация застала меня в Новосибирске. Меня сразу выселили из гостиницы. Вернувшись, я увидел свои пожитки выброшенными в вестибюль. "Сказали, что вы - шпиён", - шепнула мне горничная.
Местные власти на активе объявили, что я скрываюсь, что я просил американское подданство, но меня будто бы поймали. Словом, врали кто во что горазд. Спасибо жителям Академгородка, которые приютили меня.
Надо сказать, что у наших умельцев имелись двойники и на Западе. В 1966 году я выступал в Оксфорде. Читал новые стихи. Некий издатель по имени Флегон поставил на сцену магнитофон и записал мои неопубликованные вещи. Накануне я отказался подписать с ним договор. К тому времени у моих книг были солидные издатели: "Оксфорд-пресс", "Гроув-пресс", "Даблдэй". Я подошел к магнитофону, вынул кассету с записью моего вечера и положил в карман. Тот взревел, кинулся на сцену, но было поздно. Вечером профессор Н. Н. Оболенский, автор "Антологии русской поэзии", пригласил меня домой ужинать. Был Макс Хэйворд, глубочайший знаток и переводчик русской литературы. Во время ужина меня вызвал статный полицейский офицер: "Мы получили заявление о том, что вы обвиняетесь в похищении частного имущества - кассеты". - "Да, но похищено мое имущество - мой голос, он на кассете". - "Что же будем делать?" - "Давайте сотрем мой голос, а кассету вернем владельцу". Офицер Ее Величества согласился. В присутствии профессора Оболенского запись моего вечера стерли. Кассету вернули. Кстати, я подумал: а как бы вел себя советский милиционер в подобной ситуации?
Флегон был в ярости. Он подал в суд. Мало того, он в качестве мести осуществил пиратское издание моей книги, назвав ее "Мой любовный дневник", предисловию к которой позавидовали бы Кочетов и Шевцов, обвинявшие меня в антисоветизме. Издательство "Флегон-пресс" имело темное происхождение. Оно специализировалось на компромате на наших писателей: Солженицына, Окуджаву, издавало именно по-русски, и эти книги ложились на столы наших властей, вызывая громы и молнии. Флегон работал на наших сторонников зажима.
В стихах я назвал моего преследователя "Флег…но", учитывая уровень адресата. Макс Хэйворд с тех пор говорил о нем только так.
Окуджава рассказывал мне, а потом напечатал рассказ о том, как в Германии приехавший Флегон напился и жаловался Окуджаве, что он родился в рязанской деревне, что его фамилия Флегонтов, что он служит в советской разведке, что его никто не понимает…
Потерпев фиаско с вызовом меня в английский суд, Флегон издал эту книгу-месть. Предисловие как бы приглашало советские власти заняться поэтом. Конечно, о том, что мы враги и что он подавал на меня в суд, речи в предисловии не было.
Вот несколько цитат: "Андрей Вознесенский - символ борьбы против коммунистического строя… В настоящее время, то есть в 1966 году, Андрей Вознесенский - самый популярный советский поэт.
Каждая его поэма - это или удар по режиму, или чаевые для того, чтобы власти прикрыли свои глаза. Поэма "Последняя электричка" посвящена советским проституткам. Официально в СССР нет больше воров и проституток. Вознесенского ругали, критиковали, брали на поруки и т. д. и т. п. Советский гражданин - это заяц, которого травят партия и КГБ… ("Травля! Травля! Мы травим зайца. Только, может, травим себя?")
Такие стихи не появлялись в советской печати еще с 20-х годов, когда Есенин писал:
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать…
…Советские читатели начали ощущать жажду в стихах, касающихся любви к людям, а не к партии и объектам пятилетки.
Так как некоторые стихотворения практически не имеют содержания, идеологические критики утверждают, что у Вознесенского нет сердца. Расшифровка поэмы "Оза" не очень сложна.
Глупых идей для экспериментов у советских правителей хоть отбавляй: "А если от этого погибнет полстраны, то какое им до этого дело?" Правители вкусят "радость эксперимента". Члены идеологической комиссии ЦК - это стандартные одинаковые создания, у которых вместо головы находится нижняя часть тела… К 50-летию Октябрьской революции Андрей Вознесенский преподносит свой скромный вклад:
Уничтожив олигархов,
. . . . . . . . . . . . . . . .
демократией заменишь
Короля и холуя
Он сказал: "А на х..у..я?""
Извините, читатель, за нудность цитаты, но именно эта книга буквально в таком начертании легла на стол властей к юбилею 1967 года. Враги поэзии работали синхронно. И это отнюдь не облегчило моего положения. Перед моим носом потрясали текстом моего письма, отпечатанного "самым антисоветским издательством - НТС".
Это все приплюсовалось к обвинению, что меня "обожает ЦРУ". Тогда я и написал стихи под названием "Я обвиняюсь". Я редко пишу публицистику, это дневниковые стихи, они отражают обстановку, в которой я жил в те дни.
Вознесенский, агент ЦРУ,
притаившийся тихою сапой.
Я преступную связь признаю
с Тухачевским, агентом гестапо.Подхватив эстафету времен,
я на явку ходил к Мейерхольду,
вел меня по сибирскому холоду
Заболоцкий, японский шпион.
И сто тысяч агентов моих,
раскупив "Ахиллесово сердце",
завербованы в единоверцы.
Есть конструктор ракет среди них…И от их недостойных систем
ко мне тянутся страшные нити,
Признаю, гражданин обвинитель,
ну, а ваша преемственность - с кем?..
Такова история одного стихотворения.
Я послал это стихотворение в "Литгазету" Чаковскому, но тогда его почему-то не напечатали.
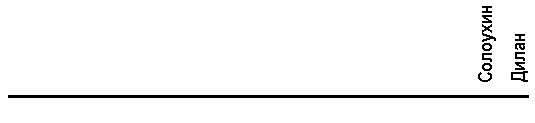
Соло земли
Отпевали его в соборе Христа Спасителя. Это было первое отпевание в отстроенном храме. Снаружи доносились удары строительных работ. Свою речь произнес Патриарх. Это, если не ошибаюсь, было тоже первое надгробное его слово по писателю. Через два месяца его слова прозвучали в годовщину смерти над переделкинской могилой Бориса Пастернака.
Среди иерархов, отпевавших Солоухина, я заметил скорбную фигуру Володи Вигелянского, бывшего либерального критика, а ныне - священнослужителя. Все перемешалось в метельной панихиде. Владимирцы, приехавшие проводить земляка, писатели-почвенники, московская публика. Был Солженицын. После панихиды над гробом неожиданно состоялся митинг. С согласия священнослужителей конечно. Меня вытащили из задних рядов. Я тоже что-то сказал. Вспомнились первые строки романа "Доктор Живаго". О неуместности речей над могилой.
Познакомился я с Владимиром Алексеевичем Солоухиным, когда в начале пути читал свою первую поэму "Мастера" в доме у Натальи Асмоловой, статной, с прямым пробором и туго уложенными на затылке косами, дочери сослуживца моего отца.
Среди гостей на диване сидел могутный, погруженный в себя человек с откинутой назад почти по плечи пшеничной копной, округлым ситным лицом, излучающим обаятельный и цепкий свет. Воротник рубашки был отложен поверх пиджака. Маститый поэт, автор "Владимирских проселков", он был по-боярски непроницаем, только светлые реснички мелко подрагивали в такт чтения.
"Приносите в газету. Опубликуем", - обронил он, налегая по-владимирски на "о". Он был членом редколлегии "Литературной газеты" и оказался человеком слова и самостоятельного мышления. Он первым в своей газете опубликовал стихи опального Наума Коржавина.
С тех пор мы не часто встречались. Его приятели косо посматривают в мою сторону, мои друзья лишь пожимают плечами при его имени. Неужели тесно в поэзии? Сколько талантов засушила, заклинила эта подозрительность, узость взглядов! Она делает композитора глухим к звонкой ноте товарища, превращает Моцартов в Сальери, застит глаза.
И как все оказывается просто, когда зимняя переделкинская дверь отворяется и неожиданно входит человек в белых неподшитых валенках. Окруженный клубами пара, обрамленный косяком двери, он кажется картиной петровских времен. Он держит в руках темно-лазурный, тисненный золотом первый том своего собрания сочинений.
"Обменяемся?" - сияет он.
Солоухин - явление нашей сегодняшней, некогда патриархальной крестьянской страны, заговорившее о себе с будничной поэтичностью. Это поселянин с уже послеесенинским трудным историческим опытом.
Крестьянин Сытин, став народным просветителем, издавал книги, нес знания в народ. Крестьянин Солоухин сам писал о Русском музее, о дальних странах, сам эти знания составлял. Так роща или лесная излучина, знай она нашу грамоту, заговорила бы о себе березовым веселым языком.
Солоухин - пишущий Сытин.
Читать его наслаждение. Какой росистый русский язык, какое подробное, бережное чувство природы! Это сизый дымящийся луг поутру, это гениальная кувшинка Покрова на Нерли, белокаменный кремль над рекой, это соло рожка над бензинным шоссе, это горестная хвоя над лужайкой, где погиб Гагарин, - это та с рождения одухотворившая нас красота, зовущая нас не только любоваться, но и сохранять, жить ради нее.
Наш автор окликает по имени все грибы и ягоды, для него нет цветов вообще - есть боярышник, ряска, кукушкины слезы, он знает даты рождения шедевров, печется о памятниках старины, любит землю, по-мужски помогая ей. Он вставляет в текст таблицы производства молока и мяса. Разговорами сыт не будешь. Порой он обстоятельно гневен.
Его назвали в честь великого города на холме, который столько страдал от удельных распрей.
Убежденный крестьянский монархист, он носил перстень из золотого пятака с изображением государя императора, за это его чуть было не исключили из партии.
Поэт прошел долгий путь от кремлевского курсанта, преданно охранявшего Мавзолей, до обличителя Ленина. Студентом он громил космополитов, а потом нашел в себе мужество стоя на коленях исступленно молить Павла Антокольского: "Сними грех с души, бес попутал!.."
Крестьянское сердце чутко не только к старине, но и к новинкам. Иван Дмитриевич Сытин построил себе дом на Тверской в стиле "модерн" по проекту А. Э. Эриксона. Ныне это дом № 18 по улице Горького, в 1979 году его передвинули. Этот новаторский для тех лет стиль иначе зовется "артнуво" или "либерти" - свободный стиль.
В поэзии ему соответствует свободный стих - верлибр. Искусник Михаил Кузмин явил шедевры этого стиля.
Около половины солоухинских стихов написано в этой манере. Поэт соединил в ней летописную протяжную повествовательность со зрительностью Жака Превера.
В 60-х годах его верлибры казались нелепы, как дымковские верблюды, запряженные в сани.
Когда-то, приехав на морское побережье к уютному, коренастому, попыхивающему трубкой Преверу, я рассказал поэту о работах владимирского умельца. Того это заинтересовало. В нашем свободном стихе есть удачи В. Бурича, И. Драча, П. Э. Руммо, есть и спекуляции не умеющих рифмовать, но не надо забывать, как пробивал его Солоухин.
От меня убегают звери.
Вот какое ношу я горе.
Каждый зверь, лишь меня завидит,
В ужасе
Бросается в сторону и убегает прочь.
Я иду без ружья, а они не верят.
Городская муза прозаизировала стих устами Бориса Слуцкого, сельская - Солоухина. Это был единый процесс поэзии.
Разглядывать каждого, а не поле.
Выращивать каждого, а не луг.
В стихах этих к нам пришел философичный земледелец, предсказанный Заболоцким.
Тогда, привязанные к хатам,
Они глядят на этот мир,
Обсуждают, что такое атом,
Каков над воздухом эфир.
Иной первоначальный астроном
Слагает из бересты телескоп…
И вот мы видим, как ставший плотью мыслящий крестьянин Заболоцкого слагает венок сонетов, пишет мрачные суровые вирши "Ястреб", "Волки", "Лозунги Жанны д’Арк", "Неглинка".
Солоухин стал в основном заметен в прозе, в особом жанре лирической повести, проложив тропу будущим так называемым "деревенщикам". О. Берггольц признавалась ему, что на "Дневные звезды" ее натолкнула его проза.
Он существует обособленно, как лесник, даже среди сборищ он одинок, он вне стаи, всегда - соло. Это характер самостоятельный, упрямый, лишенный конъюнктуры, на который можно положиться.
Мужская верность, основательность слышна в нем:
Мужчины, мужчины, мужчины,
Вы помните званье свое?
Гулким эхом отдается в этих строках заклятье Андрея Белого:
Россия, Россия, Россия,
Безумствуй, сжигая меня!
А как откровенно-смело, бледнея от страсти, читал он с эстрады про Белое знамя: "Кто любит меня - за мной!" Маскировка, что это про Жанну д’Арк, никого не обманывала.
Помню и другую встречу. Он подошел ко мне, неторопливый и, как всегда на людях, обособленно одинокий. Был он землистого цвета. Спокойно и как-то смущенно сказал: "Давай пообедаем. Через час ложусь на операцию. Опухоль какая-то зловредная". И отвел глаза. Как нуждался в бережности этот уверенный человек, столько сделавший для спасения ценностей иных! К счастью, все обошлось тогда. Но такой ценой написана одна из его повестей.
Время, когда мы познакомились, было переломным для поэзии.
Страна ожидала взлета в космос. Поэт Солоухин восхищенно писал тогда стихи о "землянах" - новой, образовавшейся тогда общности людей. Поэзия начинала только расширять горизонты. Тираж в тысячу экземпляров был типичным для сборника стихов. Поэты еще не набирали концертных залов. Но воздух уже требовал поэзии. Осенью 1960-го Театр эстрады, находившийся тогда на площади Маяковского, впервые рискнул провести четыре первых афишных индивидуальных вечера поэтов под рубрикой "Поэты современности". Среди них был Солоухин.
Он любил читать стихи, читал их рассудительно, без аффектации, доверяя людям. Как обычно, стихи лучшие при чтении вслух оказываются лучшими при чтении глазами.
Мужчине нужна подруга.
Женщине этого не понять.
А тех, которые это понимают,
Не принято в жены брать, -
читал он, озадаченно удивляясь мудрости англичанина.