Долго спустя после войны и смерти Тынянова, готовя телевизионную передачу о Центральном государственном архиве литературы и искусства, я извлек из архива Виктора Борисовича Шкловского письмо Юрия Николаевича, 1930 года.
"Дорогой Витя, недавно я слышал на улице, как одна маленькая девчонка говорила другой: "Я люблю болеть в конце четверти, когда уже по всем вызвана". Нам с тобой болеть пока еще рано - мы еще не по всем вызваны. Жаль Маяковского. Он был человеком одного возраста. Он устал в 36 лет быть 20-летним".
Тонкое понимание характеров и обстоятельств вело Тынянова к пониманию поэтов, судеб, литератур, времен. Романы его не стареют и, думаю, не постареют, даже если найдутся новые факты, о которых Тынянов не знал. Дело тут не в репертуаре фактов, а в постижении исторической роли героев. И прежде всего Пушкина, Грибоедова, Кюхельбекера. Тынянов писал не просто биографические романы, а средствами поэтического слова выяснял судьбы культуры, показывал, какою ценою куплено их бессмертие. И во всех трех романах рядом с великими героями русской литературы, соединяя эпохи, стоит сам Тынянов - огромный, еще до конца не оцененный мыслитель, теоретик, историк, художник и человек.
"КУДМАТАЯ БОКРА"
В 1925 году, семнадцати лет, я поступил на историко-филологический факультет Ленинградского университета, и тут же выяснилось, что музыка притягивает меня еще больше. И первую половину дня я занимался в университете, с четырех часов - в Институте истории искусств, вечером бегал в театры и на концерты, а занимался ночами, читал, а кроме того, писал библиотечные карточки но копейке за штуку, чтобы оплачивать дешевые билеты. В перерывах между лекциями в знаменитом университетском коридоре я в узком кругу однокурсников возбужденно делился впечатлениями и "показывал" профессоров, которых только что слушал, изображал дирижеров, знакомых и, тихонько, знаменитых певцов. Если зрителей становилось много - умолкал. Стеснялся. Профессоров старался слушать таких, которые отличались красноречием, читали свой курс увлекательно, а иные, как академик Тарле, полностью покоряли аудиторию.
Однажды мой приятель и однокурсник Дима Обломиевский спросил:
- Ты в семинаре профессора Щербы не был? Это - выдающийся лингвист, ведет очень интересные занятия на тему "Лингвистическое толкование стихотворений Пушкина".
Я сказал:
- Это для нас не обязательно…
- Не обязательно, но очень интересно. Приходи. Это в фонетическом кабинете. В среду, с девяти до часа.
Я пришел одновременно с Обломиевским. Сели за длинный стол. Через минуту появился профессор Лев Владимирович Щерба - позже он стал академиком, - высокий, статный, немолодой, с редкой просвечивающей бородкой и жидкими усиками, в пенсне, на которое поминутно спадала прядь волос, отменно воспитанный, поздоровался с нами, как с серьезными людьми, сел супротив нас за стол и ломающимся, каким-то юношеским голосом сказал:
- Ну вот. На чем мы там остановились в прошлый раз? (Он говорил что-то вроде "прёшлый", в произношении его было что-то от французского акцента.) Мы разбирали первую строчку этого… "Медного всадника" Пушькина… "На берегу пустынных вольн стоял он, дум великих польн…" Но пока мы еще не выяснили, кто это стоит, полный великих дум?
- Петр, - несмело предложил Обломиевский.
- Тут не сказано…
Я сказал:
- Дальше сказано.
- Нет, не сказано. Сказано просто: "И думал он". Опять "он"… "И вдаль глядел" и "думал он".
Обломиевский сказал:
- Может быть, "он"- это медный всадник.
- Нет, - возразил Щерба. - Медного всадника тогда еще не было. Кроме того, он не стоит, а скачет… И там не он, а они: всадник и конь. Я не могу сказать, кто это - Он, если мы не учтем модальности суждения, обусловленного различием между логическим определением и образным выражением - поэтическим тропом, передающим не полную, а только вероятную связь между понятиями. Если обратимся к трудам Александра Афанасьевича, мы найдем там примеры сходных несоответствий…
Мы не знали, что такое модальность, впервые слышали про Александра Афанасьевича, потому что не знали, что так звали знаменитого ученого - Потебню.
В час дня Щерба встал, поклонился, спросил, придем ли мы в следующую среду. Мы сказали, что будем. В среду пришел я один - Обломиевского не было. Тут понял я, почему он так настойчиво уговаривал меня посетить семинар Щербы.
Щерба пришел, поздоровался, сел за стол, ничего про Обломиевского не спросил.
- Ну вот. На чем мы там остановились в прошлый раз? На первой строчке "Медного всадника": "На берегу пустынных вольн…" Я не знаю, что такое пустынные волны? Может быть, вы попробуете объяснить это…
- Пустынные, - сказал я, - это в смысле пустые, подобные пустыне, где ничего нет…
- Это не так! В пустыне есть песок, дюны, в пустыне пальмы растут, качается караван верблюдов, кто-то ловит копье на скаку, как сказано у этого… Лермонтова. В пустыне - есть артезианские колодцы, есть львы, в пустыне добывают нефть - здесь мы снова встречаемся с особенностями эмфатической речи, с отличием образных поэтических выражений от точных значений слова. И хотя мы-то с вами хорошо знаем, что в пустыне много чего есть, мы воспринимаем слово "пустынный" в его переносном значении. Пустынный - где ничего нет. Это иносказание. Так же, как "полный великих дум". Думы - не наполняют. Наполнить можно сосуд, можно наполнить корзину, вагон, наполнить ванну, наполнить карманы. Наполнить думами человека - я не знаю, насколько это точно. Впрочем, есть выражение: хлопот полон рот. В сущности, только одно слово - на берегу - соответствует здесь своему самостоятельному значению… Хотя можно было бы употребить и другую форму: на береге… По аналогии с "на дереве", "на столе", а не "на столу", и не "на дереву".
Вообще у Щербы среди студентов была репутация чудака, и я не имел представления в ту пору, что занимаюсь с великим ученым, одним из основоположников современной структурной лингвистики, создававшим в ту пору учение о "грамматической связанности", или "грамматической отмеченности", о смыслах, которые мы улавливаем по конструкции фразы даже в тех случаях, когда подставляем слова, лишенные смысла. Так, при мне он придумал и велел мне написать на доске фразу "Кудматая бокра штеко булданула тукасетенького бокреночка"- абсолютно понятную русскую фразу, несмотря на то что этих слов нет ни в русском и ни в каком другом языке. Потом "бокру" заменила "глокая куздра", но при мне была бокра!.. Первое время я томился, уговаривал однокурсников пойти хоть раз побывать на этих занятиях, но простаков вроде меня не находилось. А я мало-помалу так увлекся этими занятиями, что жил не от воскресенья до воскресенья, а от среды до среды и посещал семинар в продолжение целых трех лет до окончания университета. Я не могу сказать, что никто, кроме меня, никогда не навещал в эти часы фонетический кабинет, - это было бы неправдой, - но в основном на этих занятиях на одного профессора приходился один студент. И этим студентом был я. За три года мы прошли восемнадцать строк вступления к "Медному всаднику", но "по-настоящему" прошли только восемь. Да и то в них оставались не до конца выясненные вопросы.
По мшистым топким берегам
Чернели избы здесь и там,-
произносил Щерба, глядя в окно.
- Возможно, - говорил он задумчиво, - что это немецкое "хир унд хер", возможно, французское "парси-парла". Я не знаю, насколько это парси, но относительно парла у меня имеются некоторые соображения…
Или вот еще: "Бедный челн по ней стремился одиноко". Почему челн бедный? Я не знаю… Что он? - небогатый? Нет! Или, может быть, вызывает состраданье? Потерял родителей? Скудный, убогий, незначительный? Нет… Я думаю, слово бедный употреблено здесь в значении неприглядный, невзрачный… Послушайте! - спросил он меня. - Почему бы вам не взять для диплома слово бедный у Пушкина. Взял же Виктор Владимирович Виноградов слово ахинея, а получилась отличная диссертация.
- В поэтическом тексте, - продолжал он в другой раз, - слово при произнесении вслух обретает экспрессию и множество новых смысловых оттенков… Попробуем вначале взять какую-нибудь короткую синтагму - для удобства из трех или четырех слов - и попробуем сказать ее на разные лады. Вот напишите на доске какое-нибудь слово, скажем, платок. Какой? Носовой? Хорошо. Носовой. Пусть этот платок будет еще и красным. Лучше в одну строчку. Пишите Красный носовой платок. "Какой это у вас платок?"- возникает интонация вопроса. "У меня красный носовой платок"- интонация ответа. "А я думал, что у вас красный носовой платок". "Нет, у него, оказывается, красный носовой платок". Новые интонационные варианты откроются, если мы выделим красный. "У вас красный носовой платок? А я-то думал, что это красный носовой платок". "Зря думали, что это красный носовой платок"… Если же мы выделим платок, то тут снова увидим изменение значений в синтагме в целом. "Что вы надели на голову вместо шляпы?"- "Красный носовой платок". - "Так кто же надевает на голову красный носовой платок?"- "А я хочу и надеваю красный носовой платок"… Если же мы хотим сохранить равенство всех членов синтагмы, то произнесем с понижением к концу строки: "Это красный носовой платок". А теперь снова обратимся к Пушкину и точно так же скажем без экспрессии, как сообщение: "На берегу пустынных вольн (тут можно сделать небольшое повышение) стоял он, дум великих польн, и вдаль глядел…" Читать следует спокойно, не выделяя отдельные слова, исходя из предположения, что Пушкин расставил слова так, что интонация предопределена… Ну, я думаю, на сегодня хватит…
После каждого занятия, положив перед собой лист бумаги и собираясь что-нибудь написать, я все дольше задумывался над тем, какое слово мне написать, вспоминал заявления Щербы: "Я не знаю, как это сказать" и "Я не знаю, что это значит…" Да так задумался, что, еще не научившись писать, я полностью разучился писать. Но когда входил в университетский коридор, влюбленно изображал Щербу. Конфузливо смеялся Обломиевский, и люди смеялись, и сам я смеялся, но благодарную память о занятиях со Щербой пронес через всю жизнь. Это был настоящий ученый. Он не готовое излагал - он вслух мыслил. Теперь-то я понимаю, сколько он дал мне, что это он приучил меня к бережному обращению со словом.
ВЕДУ РАССКАЗ О МАРШАКЕ
Писателям моего поколения, да и не только моего, а и старших поколений, и младших, вообще тем, кто лично знал Самуила Яковлевича Маршака, очень повезло в жизни. Потому что читатели имеют представление о нем как о замечательном детском поэте, как об удивительном переводчике, эпиграмматисте, плакатисте; как о прозаике, драматурге, теоретике и критике детской литературы; как о замечательном, непревзойденном редакторе, - но только те, кто знал Маршака лично, знали Маршака-собеседника, а эта грань его таланта была, быть может, одной из самых сверкающих, потому что такого собеседника, как Маршак, не было, нет и не будет. Не потому, что другие не могут поговорить, а потому, что это не будет разговором с Маршаком. Почти за 40 лет нашего знакомства он не сказал ни одной проходной фразы, так, ни о чем; он всегда говорил о литературе, о деле. Этот разговор о поэзии начинался, когда вы вешали в передней пальто, и кончался далеко за полночь. И не потому, что у Маршака было много свободного времени, а потому, что он торопился внушить вам свои лысли и превратить вас в своего последователя, своего ученика.
Как только вы входили в его комнату, он начинал читать вам свои новые стихи. Прочитав, сейчас же передавал их вам, чтобы вы прочли их вслух, потом снова читал сам. Потом требовал, чтобы вы сказали свое нелицеприятное мнение. Спрашивал:
- Какие строчки больше тебе нравятся, первые или последние?
Если вы называли первые - он, вспыхнув, говорил:
- Почему первые?
Никогда нельзя было сказать, какие лучше или хуже, потому что он обижался за те строчки, которые вы обошли. Да, это было удивительно. Он обижался на эти замечания как-то мгновенно, но вообще жаждал поощрения и критики.
читал свои стихи всем: читал молочнице, читал телефонисту, который приходил чинить его телефон, потому что так много говорил по телефону, что тот все время портился. Читал курьеру, который принес ему рукопись из издательства, читал детям во дворе, читал шоферу, читал поэтам, критикам и прозаикам по телефону. Он всем читал, и все замечания, даже если обижался, учитывал. Иногда, по-моему, даже в ущерб делу. Так, например, у него в книжке про цирк были замечательные строчки:
По проволоке дама
Идет, как телеграмма…
Маяковский хвалил эти строки, а он вдруг выбросил. Я спрашиваю:
- Зачем же ты выбросил такие замечательные строчки?
Он сказал:
- В советском обществе никаких дам нет, и нечего детям морочить голову.
Он был человек удивительный! Окончив чтение новых стихов, он начинал читать свои старые, потом замечательные переводы английских народных баллад, стихи Бернса, потом других поэтов, потом Пушкина. Читал глухим сиплым голосом, спокойно и просто, и обнажались тонкости, которых вы не читали и не слыхали, даже если знали стихотворение наизусть. Потом начинался разговор о литературе. Это было бесподобно прекрасно, потому что он разбирал вещи не вообще, а раскрывал нам смысл каждой строки, каждого поэтического слова. Все поэты, да и вообще все, кто бывал у него, могут подтвердить, что общение с Маршаком было для них целой поэтической академией. И это было поразительно: он вбивал вам в голову одни и те же примеры по многу раз. Не потому, что он забывал, кому что рассказывал; он помнил, но говорил:
- Я тебе много раз уже объяснял, что от того, как расставлены слова во фразе, зависит весь смысл. Ведь все зависит от того, как они поставлены. Какая прекрасная фраза "кровь с молоком" и какая отвратительная - "молоко с кровью". Ведь правда же?!
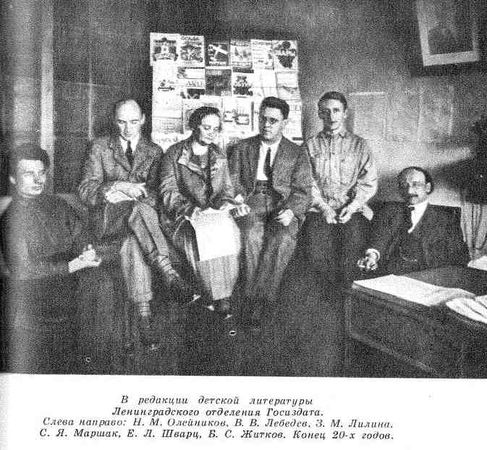
Он обожал Пушкина, он считал его эталоном чистоты, точности, красоты речи и говорил, что у Пушкина нет ни одного лишнего слова, даже эпитет у него не просто раскрывает соседнее слово, а несет смысловую нагрузку. Говорил:
- Возьми строчку "духовной жаждою томим", отними "духовной"- получается: жаждою томим, то есть пить хочется, - совсем другое. А какие там дальше идут замечательные слова! "И шестикрылый серафим на перепутье мне явился". Шестикрылый! Слово какое! Строчку загораживает! Дорогу загораживает! Образует перепутье, веришь, что за этими крылами много дорог, что поэту надлежит выбрать какую-то одну, прямую. Замечательно! Ты знаешь, у Пушкина две строки, а послушай, как сказано:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны плещут…
"Плещут"-слово какое незатасканное, сколько лет прошло, никак не удается затаскать, потому что сказано очень точно. "Блещут" - "плещут"- каждому слову в верхней строке отвечает слово в нижней, и какой молодец Пушкин, что у него небо сверху, а море снизу, а не наоборот! Мы ведь очень много врем, уверяем себя, что мы Пушкина очень хорошо знаем, - все вранье! Выучили хрестоматийный пятачок наизусть и гордимся… Ты, например, знаешь Пушкина стихотворение "К вельможе"? Наизусть? Не знаешь. Очень стыдно. А я знаю.
С этим стихотворением связана одна замечательная история. Однажды я пришел к нему. Это было в сентябре сорок первого года. Он написал несколько строк - подпись к карикатуре Кукрыниксов, послал в "Правду", освободился и тут же стал меня вызванивать. Я к нему пришел. Было, наверное, половина одиннадцатого. Он жил около Курского вокзала. Через некоторое время объявили воздушную тревогу, и самолеты противника пошли пикировать на Курский вокзал, и что тут стало делаться на небе и на земле, вообразить невозможно. А он никуда не пошел, остался сидеть в своих низких кожаных креслах и тихонько читал стихи:
От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,
Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались…
Что ты все в окно смотришь, ты музыку Пушкина слушай, а не этот грохот чудовищный!..
Нет, это был поразительный человек. 50 лет он переводил стихи Уильяма Блейка и умер в убеждении, что не довел перевод до кондиции. Он был нетерпелив, а работал терпеливо, долго. Не дай бог было прийти к нему в тот час, когда он назначил! Надо было прийти гораздо раньше, за час надо было прийти, потому что он не мог ждать. Когда он был уже и болен, и стар, и дряхл, я как-то обещал прийти к нему в семь часов вечера. Он начал звонить уже в четыре:
- Ты еще не вышел?
- Нет, не вышел.
- А как ты доберешься, ты не опоздай!
Я говорю:
- Не опоздаю.
- А как ты поедешь?
- Ну, возьму такси и поеду.
- А вдруг не достанешь?
- Ну, возьму "левую" машину.
- А вдруг и левой не будет?
- Пешком пойду.
- Ну, и опоздаешь. Ты гляди, мне ведь теперь, как прежде, уже невозможно долго сидеть, после трех-четырех ночи мне трудно.
А я собирался уйти не позже часа, и то на часы поглядывал.
Он замечательно разъяснял структуру стиха. То, как стихотворение сделано. Раздражался на символистов, говорил:
- Придумали, что стихотворение "Обвал" инструментовано особенным образом, так это же всякому дураку видно, что инструментовано, а вот почему Пушкин взял разностопные строчки, этого никто не говорил еще. А я тебе объясню. Ведь это стихотворение о горах. Когда человек кричит, он кричит дольше, а эхо возвращает ему часть того, что он крикнул. И поэтому, как только идет разностопная строка, сразу ощущение горного пейзажа. Какие стихи благородные:
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы -
и короткая строчка:
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы -
и опять короткая:
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал
И всю теснину между скал -
и опять короткая:
Загородил
И Терека могущий вал
Остановил.
Какое слово: "могущий"! Оно торжественно. Это не то что могучий, это что-то другое. Пушкин необычайно чувствовал оттенки слова. Вот и у Бернса тоже. Это горный поэт, он тоже любит этот размер. Об этом никто не подумал. Много ряженых в литературе, представляются, что они поэты. Есть поэты, сделанные из какого-то "бородавчатого мяса". Знаешь, тебе надо что-нибудь написать.
Я говорю:
- Я тебе только что книжку подарил.
- Да, я ее просто еще не видел. Ты знаешь что, мы ведь с тобой давно знакомы, видимся уже лет пятнадцать, пожалуй. Тебе обязательно надо попробовать писать, я думаю, у тебя получится.
Как он запомнил меня с молодости, так до старости считал, что я не пишу. А я ему все, что выходило, дарил. Он говорил: