Все дело в том, что "Мариенгоф принял революцию не извне, а изнутри". Что это значит? А значит это, что он с 1918 года уже состоял на службе правительства. Этим объясняется дружба с Борисом Малковым. Этим объясняется помощь Николая Бухарина. Этим объясняется, что чекисты - друзья Мариенгофа. Этим объясняется все в его жизни. Он был своим человеком и в кабинете Троцкого, только во всех своих воспоминаниях он всегда на втором плане, как случайный посетитель.
Знал ли об этом Есенин в те годы? Однозначно ответить трудно. Но после возврапдения из-за границы точно знал. Вот потому и разошлись их пути, а ссора и ее причина - это был только внешний предлог.
Из письма Есенина Г. Бениславской (Ленинград, 3–5 мая 1924 года):
"Со "Стойлом" дело нечисто. Мариенгоф едет в Париж. Я или Вы делайте отсюда вывод. Сей вор хуже Приблудного. Мерзавец на пуговицах опасней".
Надо ли говорить, что за рубеж выпускали только особо доверенных, а Мариенгоф с женой выезжали и в 1924, и в 1925, и в 1927 годах. Для одних двери за кордон были наглухо закрыты, не пускают даже на лечение. Для других распахнуты настежь. Кусиковы и Эренбурги ездят в Париж, как на собственную дачу.
Кусиков - Ройзману:
"Да, Мотя, работать надо… Хотел было поехать в Россию. Но подумал о друзьях, обо всем, что и как - и отложил пока поездку до тех пор, пока окрепнет "общество". Потом приеду месяца на два-три - а затем через Париж в Америку".
Для них другие законы - неписаные. А Есенина даже на неделю в Персию не пустили.
Шубникова-Гусева: "Откровенность" автора письма согласуется с оценками русской эмигрантской прессы того времени, называвшей парижское общество "Друзья России" "филиалом ГПУ", а газету "Парижский вестник", где сотрудничал Кусиков, - "чекистским вестником".
Ренэ Герра пишет:
"Ошибочно думать, что эмиграция была только "белая". Два художника - Юрий Анненков и Сергей Чехонин - немало сделали для воспевания революции.
Анненков едет во главе советской делегации на биеннале в Венецию с портретом Троцкого в полный рост, но решает не возвращаться.
Другой - разработчик первых советских денежных знаков и вообще советской эмблематики уезжает спустя четыре года: жить в стране Советов невмоготу".
К словам этого "русского француза", как его называли, который достаточно изучил русскую эмиграцию, стоит внимательно прислушаться. Эмиграция была не только "белая". Эмиграция была и "красная". Это те самые "ядра", о которых говорил Ленин:
"Начиная с II конгресса III Интернационала мы прочной ногой стали в империалистических странах не только идейно и организационно. Во всех странах имеются в настоящее время такие ядра, которые ведут самостоятельную работу и будут вести ее".
В 1921 г. Ленин еще раз подчеркнул в "Заметках публициста":
"Нешумная, неяркая, некрикливая, небыстрая, но глубокая работа создания в Европе и Америке настоящих коммунистических партий, настоящих революционных авангардов пролетариата начата, и эта работа идет".
Об этом пишет и красный эмигрант, связавший свою жизнь с зарубежьем, Юрий Анненков.
В начале 1920-х годов за рубеж выехало много русской интеллигенции. Точнее - еврейской. Они не страдали ностальгией, у них не было языкового барьера и прочих русских причуд, они быстро и незаметно растворялись в новой среде и адаптировались к новым условиям. Сегодня он учитель в Чикаго, завтра - посол в Китае. Это журналисты, писатели, актеры, врачи, учителя. У Ленина засвидетельствовано:
"Принимая во внимание длительность нарастания мировой социа-листической революции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами:
(…) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухонемые снова поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей".
Вот так, как у Ленина написано, и следует понимать "красных" эмигрантов: эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления.
Георгий Иванов в есенинских друзьях не числился, и не известна его позиция по отношению к советской власти. И в России, и за рубежом он был и оставался лидером, с мнением которого считались и которого побаивались за острый язык. "Он создает и губит репутации", "его называют "общественным мнением", - так в воспоминаниях Ирины Одоевцевой отзывается о нем Н. Гумилев.
Небезынтересны такие сведения о нем жены И. Одоевцевой:
"В начале июля 1922 года Георгий Иванов, добившись с большими трудностями и хитростями "командировки для составления репертуара государственных театров на 1923 год", спешно покинул Петербург. Спешно оттого, что его командировка была на редкость "липовой", и в "верхах" могли понять это и отменить ее…
К театральному делу Георгий Иванов никак не был причастен, ровно ничего в театре не понимал и не любил его (…)
Мои бумаги еще не были готовы - я оптировала с большими сложностями латвийское гражданство и покинула Петербург с эшелоном через две недели после того, как Георгий Иванов уплыл на торговом корабле в Германию.
(…) Луначарский тогда еще не лишился своей власти и выдавал самые фантастические командировки".
Само собой разумеется, что Луначарский здесь был ни при чем. На Запад в капиталистические страны под любым предлогом отправляли самые надежные кадры - засылали "большевистские ядра". После раскола в большевистском правительстве и изгнания Троцкого многие из них оказались без поддержки большевиков, очевидно, те, кто служил Троцкому. Судьбы многих из них сложились трагически, а талант не реализован, не востребован. В этом смысле к числу неудачников Ирина Одоевцева причисляет и своих друзей: Георгия Иванова, Георгия Адамовича, Николая Оцупа и других "красных" эмигрантов.
"Стихи их были никому не нужны. И это делало поэтов, пишуших на русском языке, несчастными".
Глава 3
Посмертный грех Есенина
У меня ирония есть…
Если хочешь знать, Гейне - мой учитель.
(Есенин о себе. Из воспоминаний Эрлиха)
В воспоминаниях П. Чагина Есенин упоминает имя Генриха Гейне рядом с именем Карла Маркса. А между тем, Есенин уверял, что "ни при какой погоде" он "этих книг, конечно, не читал". Что же в таком случае привлекло его внимание?
Друг К. Маркса, великий поэт Германии Генрих Гейне незадолго до своей смерти в 1854 году писал о коммунистах и коммунизме: "Нет, меня одолевает внутренний страх художника и ученого, когда мы видим, что с победой коммунизма ставится под угрозу вся наша современная цивилизация, добытые с трудом завоевания стольких столетий, плоды благороднейших трудов наших предшественников".
А в следующем, 1855 году, высказался еще определенней:
"Со страхом и ужасом думаю я о той поре, когда эти мрачные иконоборцы встанут у власти. Своими мозолистыми руками они без сожаления разобьют мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу. Они уничтожат все те безделушки и мишуру искусства, которые были так милы поэту. Они вырубят мою лавровую рощу и на ее место посадят картофель. Лилии, которые не сеяли и не жали и все же были так же великолепно одеты, как царь Соломон во всем его блеске, будут повыдерганы из общественной почвы. Розы, праздничные невесты соловьев, подвергнутся той же участи. Соловьи, эти бесполезные певцы, будут разогнаны, и - увы! - из моей "Книги песен" лавочник наделает мешочков и будет в них развешивать кофе и табак для старушек будущего".
Разве не о похожих опасениях, живших в Есенине, вспоминал Илья Эренбург:
"Вдруг обрушился на Маяковского., Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят (…) А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают, И все-таки я с ним не поменяюсь (,)
Есенин всегда жаждал славы, и памятники для него были не бронзовыми статуями, а воплощением бессмертия".
Можно иронизировать, а можно спросить, - почему же большевистское правительство, многое пообещав после смерти поэта, не поставило ему памятника нигде, ни в Москве, ни в Рязани? Разве он не заслужил его всенародной любовью? Ответ на этот вопрос, о "площадях Маяковского", о "городах Горького", дал Георгий Иванов еще в 1950 году: "Не сомневаюсь, что нашлась бы площадь и все остальное и для Есенина, если бы за ним числились только грехи, совершенные им при жизни… но у Есенина есть перед советской властью другой непростительный грех - грех посмертный… Из могилы Есенин делает то, что не удалось за тридцать лет никому из живых: объединяет русских людей звуком русской песни, где сознание общей вины и общего братства сливаются в общую надежду на освобождение. Оттого-то так и стараются большевики внушить гражданам СССР, что Есенина не за что любить. Оттого-то и объявлен он несозвучным эпохе".
Г. Иванов объяснил и то, почему Есенин был объявлен "несозвучным эпохе": "Среди примкнувшим к большевикам интеллигентов большинство были проходимцами и авантюристами. Есенин примкнул к ним, так сказать "идейно". Он не был проходимцем и не продавал себя (…) От Ленина он, вероятно, ждал приблизительно того же, что от царицы. Ждал осуществления мечты, которая красной нитью проходит сквозь все его ранние стихи, исконно русской, проросшей насквозь века в народную душу, мечты о справедливости, идеальном, святом мужицком царстве, осуществиться которому не дают "господа".
Есенин назвал эту мечту "Инонией". Поэма под таким названием, написанная в 1918 году, - ключ к пониманию Есенина эпохи "военного коммунизма". Как стихи, "Инония", вероятно, самое совершенное, что он создал за всю свою жизнь. Как документ - яркое свидетельство искренности его безбожных и революционных увлечений".
И еще: "Судьба Есенина - пишет Георгий Иванов, - это судьба миллионов посмертный безымянных "Есениных"… Закруженные вихрем революции, ослепленные ею, вообразившие, что летят к звездам, и шлепнувшиеся лицом в грязь. Променявшие Бога на "диамат", Россию на интернационал и в конце концов очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции.
Потому-то стихи Есенина ударяют с такой "неведомой силой" по русским сердцам, и имя его начинает сиять для России наших дней пушкински-просветленно (…)
Подчеркиваю: для России наших дней. То есть для того, что уцелело после тридцати двух лет нового татарского ига от Великой России.
Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа "страшных лет России", совпал с ним до конца, стал синонимом и падения России, и ее стремления возродиться. Беспристрастно оценят творчество Есенина те, на кого очарование его творчества перестанет действовать… только произойдет это очень нескоро. Произойдет не раньше, чем освободится, исцелится физически и духовно Россия. (Есенин сказал то же самое: "Меня поймут лет через двести".)
В этом исключительность, я бы сказал, "гениальность" есенинской судьбы. Пока родине, которую он так любил, суждено страдать, ему обеспечено не пресловутое "бессмертие", а временная, как русская мука и такая же долгая, как она, жизнь".
Никто и никогда не сказал яснее.
Книга вторая
Валентина Пашинина
ЕСЕНИН И ЕГО ВРЕМЯ
Я чувствую себя просветленным. Не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха, Я понял, что такое поэзия.
Сергей Есенин
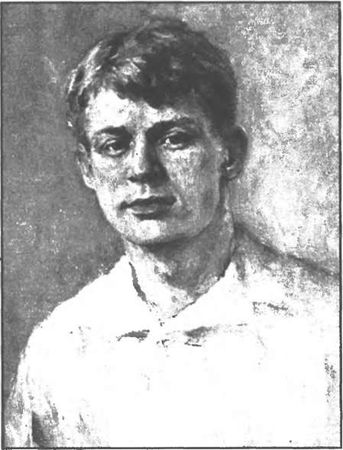
Часть l
"КОММУНОЙ ВЗДЫБЛЕННАЯ РУСЬ"
Глава 1
Несозвучный эпохе
В 1926 году Троцкий доброжелательной, можно сказать, сердечной статьей проводил Есенина в последний путь, а ровно через год, в 1927-м, другой главный идеолог страны, Николай Бухарин, буквально обрушил на ушедшего поэта ушат грязи и ненависти. В 1926 г. большевистское руководство велело создать комиссию по увековечению его памяти (организация музея, издание собрания сочинений, переименование села Константиново и т. д.), а в 1927 - стараниями Бухарина, Сосновского, Лелевича (Калмансона) перечеркнуло всю его жизнь и похоронило есенинскую поэзию на долгие годы.
Из письма Александра Воронского М. Горькому, 16 февраля 1927 года:
"Против Есенина объявлен поход. Не одобряю. Нехорошо. Прошлый год превозносили, а сегодня хают. Всегда у нас так". Странный факт.
Каковы мотивы такого крутого поворота? Разве Есенин потускнел за 1926-й год? Разве померкли его популярность и его поэзия? Чем он смог провиниться перед советской властью после своей смерти? Все, что хотел сказать, он сказал при жизни, не скрывая. Все выпады против себя эта самая власть приняла и простила поэту: и "Страну Негодяев", и "Русь бесприютную", и "Москву кабацкую", и статью "Россияне"… Никто в его поэзии и пьяных скандалах не усматривал большого криминала. Смирились, вроде бы: ну что с него возьмешь - таким он, Есенин, уродился.
Более логичным выглядело, если бы сначала большевики осудили Есенина как пьяницу и хулигана, а потом начали возвращать поэзию, очищенную от скандальности его жизни. Произведения ведь, уйдя от автора, начинают жить самостоятельной жизнью… Но не тут-то было: с малопонятной ненавистью советская власть обрушилась уже на ушедшего в мир иной. В конце 1920-х годов погребли его поэзию, а в 1930-х годах стерли с лица земли всех его друзей. Друзей истинных, а не тех, кто его предал и оболгал. Такие, как Мариенгоф, умерли своей смертью.
Так чем же Есенин не угодил советской власти? Почему она так круто обошлась с лучшим поэтом страны, которую эта самая власть взялась привести к лучшей жизни?
Чтобы ответить на вопрос, надо понять главное: что такое советская власть. Как известно, Ленин в своих работах на этот главный вопрос ответил. Советского человека на том и воспитывали.
Нас же интересует, как современники воспринимали все происходящее, как они смотрели на власть большевиков.
Глава 2
Россия завоевана еврейством
"Сейчас Россия, - уверял В. Михайлов в 1921 году, - в полном и буквальном смысле этого слова Иудея, где правящим и господствующим народом являются евреи и где русским отведена жалкая и унизительная роль завоеванной нации, утратившей свою национальную независимость (…) Резюмируя все вышеизложенное, можно смело сказать, что еврейская кабала над русским народом - совершившийся факт, который могут отрицать и не замечать или совершенные кретины, или негодяи, для которых национальная Россия, ее прошлое и судьба русского народа совершенно безразличны Месть, жестокость, человеческие жертвоприношения, потоки крови - вот как можно характеризовать приемы управления евреев над русским народом. Никаких надежд на гуманность, сострадание и человеческое милосердие для жертвы еврейского деспотизма быть не может, ибо эти чувства недоступны еврейскому народу, который веками питает непобедимую ненависть к другим нациям, народу, все существо которого жаждет крови и разрушения".
(А. Янов. Русская идея и 2000-й год. Нева № 9–12 2000 г.)
В 1922 году общественный деятель И.М. Бикерман писал: "Русский человек никогда не видел еврея у власти; он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Были и тогда, конечно, и лучшие, и худшие времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно.
Теперь еврей - во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной Армии, совершеннейшего механизма самоистребления.
Он видит, что проспект Св. Владимира носит теперь славное имя Нахамкеса (правильно - Нахимсона - С.М. и С.К.), исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск - в Слуцк.
Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом. Он встречает евреев не коммунистов, а таких же обездоленных, как он сам, но все же распоряжающихся, делающих дело советской власти: она ведь всюду, и уйти от нее некуда. А власть эта такова, что, поднимись она из последних глубин ада, она не могла бы быть ни более злобной, ни более бесстыдной.
Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждается в мысли, что нынешняя власть - еврейская, и что потому именно она такая осатанелая. Что она для евреев и существует, что она делает еврейское дело, в этом укрепляет его сама власть" ("Россия и евреи").
Это голос с той стороны. Но такие же декларации раздавались и здесь: "У нас нет национальной власти - у нас власть интернациональная". "Мы защищаем не национальные интересы России, а интернациональные интересы трудящихся и обездоленных людей всех стран"("Известия", 8.11. 1921 г… Ст. и С. Куняевы).
Из Большой Советской Энциклопедии:
Сионизм - наиболее реакционная разновидность еврейского буржуазного национализма, получившая значительное распространение в XX веке среди еврейского населения капиталистических стран.
Основные положения доктрины сионизма:
- евреи различных стран мира представляют экстерриториальную единую всемирную еврейскую нацию;
- евреи - "особый", "исключительный", "избранный Богом "народ";
- все народы, среди которых живут евреи, так или иначе антисемиты (…)
Все формы классовой борьбы среди евреев - предательство (…)
Сразу после победы Октябрьской революции в 1917 году в России сионизм развернул активную борьбу против молодого Советского государства.
(Большая Советская Энциклопедия, 1976 г. т. XXIII, с. 445)
"Русских допускали в высшие учебные заведения в строго ограниченном количестве, как властителей "тюрьмы народов". В результате - самый малый процент образованных людей: 20 на тысячу, у грузин - 40 на тысячу, у евреев - 700 на тысячу".
(Дм. Жуков. Жизнь и книги В.В. Шульгина)
Глава 3
Несколько слов о голоде в России
Обращение Ленина к международному пролетариату в связи с голодом, охватившим около 33 млн. человек Поволжья и юга Украины нашло широкий отклик среди рабочих и трудящихся масс всех стран. В августе 1921 года по инициативе Коминтерна был организован "Временный заграничный комитет помощи России". В.И. Ленин в одной из своих статей приводит такие данные: