И несколько минут спустя, выходя из парикмахерской, он почти сквозь слезы не мог подавить смеха:
- Нет… Ты слышал: беспардонное такое лицо… симпатичное. Это непременно надо запомнить.
Прошло немногим больше недели - и пари было им выиграно. Поздно вечером он, торжествующий, появился у нас и, вытащив из кармана пальто объемистый сверток листков, исписанных полудетским, но четким почерком, громогласно заявил:
- Выиграл… Вот вам и пьеса! (5).
На следующее утро она была вручена А. А. Брянцеву.
Так родилась первая пьеса Евгения Шварца - "Ундервуд" (6). А наша тюзовская сцена в античном полукруге зрительного зала стала местом "театральных крестин" одного из талантливейших советских драматургов.
Между прочим, в пьесе действовала неуклюжая, маленькая, гаденькая старушонка Варварка, которая не щиплет девочку, а только щипками ее воспитывает. Она ласково-ласково ей льстит, говоря, что у нее "лицо симпатичное - беспардонное у нее лицо".
Режиссер Б. В. Зон и художник М. А. Григорьев (7) выстроили на сцене ТЮЗа самый настоящий дом. Два этажа. Действующие лица могли входить на сцену как им было угодно - и прямо из зрительного зала, и по лестницам, и даже, если надо, вскарабкиваться по водосточной трубе. Эту сказку играли первоклассные артисты: пионерку играла знаменитая Капа Пугачева, первая из прославленной четверки тюзовских травести. Студентов играли Н. К. Черкасов и Б. П. Чирков (8). Злую Варварку играла Е. А. Уварова (автор исполнил данное обещание). Двух девочек - А. А. Охитина и Е. Р. Ваккерова. Часового мастера играл молодой Л. С. Любашевский, и, наконец, самого злого симулянта, на колесиках ездившего как "безногий" и быстро вскарабкивающегося на второй этаж, когда его никто не видит, играл В. П. Полицеймако.
А драматург продолжал шутить и смеяться. Он мало интересовался тем, как работают актеры и режиссер. Он доверял театру пьесу и ждал - ему было самому интересно увидеть в первый раз свою пьесу на сцене.
- Я боюсь, что пьеса мне не понравится, - говорил он, когда его приглашали прийти на репетицию. - Мне страшно лазать по трубе на второй этаж.
Иногда он впадал в наивное раздумье и острил по поводу актерской профессии:
- Удивляюсь - как это можно играть чужую пьесу? - и потом, подумав, говорил смеясь: - Когда я играл сам на сцене, мне казалось, что лучшие роли я сам себе выдумал… а вообще-то я с удовольствием бы снова пошел в актеры, чтобы… - он умолкал и смеясь добавлял: - Тогда я имел бы право поехать в дом отдыха ЦК Рабиса…
Пока театр готовил пьесу к премьере, автор явно набирался новых впечатлений. Он вел внешне праздную жизнь, но по-своему трудился. Он наблюдал и слушал. И в каждом новом "походе в жизнь" находил новые доводы, чтобы посмеяться и поиграть простыми и обычными понятиями. А к себе он, как всегда, относился очень критически. Вот как он писал однажды о своей пьесе:
"Я очень устал, голова стала совсем плоха, ничего не пишу. Брянцев говорил во вторник, чтобы я зашел к нему поговорить о пьесе до отъезда, но я не пошел. Не хочется, скучно и противно. На днях я должен был читать пьесу в литературной газетной компании, но перед чтением просмотрел пьесу и позвонил, что у меня внезапное заседание. Если это мне кажется не от усталости, а пьеса и верно дрянь, то осенью я сообщу об этом Брянцеву и сниму пьесу. По тем же причинам я не послал пьесу никуда и никуда не пошлю. Новую надо писать…"
А между тем пьеса репетировалась, спектакль пошел, хотя и немало было хлопот, но зритель и время побеждали.
Осенью он был ироничен, тоскливо-весел. Это в нем уживалось всегда, как осенний листопад с поэзией осени. Одно письмо он пишет из Крыма, другое из Абхазии. И везде - юмор, дружба, нежное отношение к людям.
"Любите ли Вы осень? По-моему, это отличное время года…" "Я стал вегетарианцем. Это такая тоска! Если бы у вегетарианцев были шашлыки, шницель, ветчина - все было бы хорошо, но у них одни скучные пустяки. Вчера я перестал быть вегетарианцем, отдыхаю. Завтра опять начну. Все это я делаю, чтобы не состариться прежде времени. Я прочел, что вегетарианцы не стареют…"
"Вчера я был у Ольги (актриса ТЮЗа, которая в то время болела. - Л. М.) (9). Она очень хочет уехать на Кавказ… А ни в одну санаторию ее не примут… Ехать туда нужно на осень… А сейчас нужно собрать для Ольги денег. Нужно устроить концерты, сложиться, но только к осени…"
"От Вашего первого друга Гаккеля я получил две открытки с дороги. Он путешествует, как миллионер, в мягком вагоне. Вот человек! Ни одного случая не упустит затмить и уничтожить меня…"
"Вчера я был у Маршака в Лебяжьем. Уезжая, спешил на поезд и бежал лесом под проливным дождем. Это мне понравилось: была тоска и отчаяние, а не мутное безразличие. Потом от меня в вагоне валил пар. Вагон стал похож на баню. Один старичок даже влез на верхнюю полку и попарился…"
"Вчера мне сказали, что один наш с вами общий друг побрил голову. Подумайте - каков смельчак! Я тоже мечтал так поступить, но мне мешало честолюбие…" (10).
Письма свои Женя Шварц писал не как попало, а точно и просто. В них не было никакого "искусства". Зато они полны неожиданных сравнений, ассоциаций и той особенной человеческой чистоты и правдивости, которые превращают самое письмо в драгоценный психологический документ заботы, тревоги, доверия, дружбы. Читая его письма, ощущаешь исключительное совпадение слов с подлинным событием. Его письма как будто непосредственно выходили из его сердца и души, минуя средства выражения. Каждое шварцевское письмо было естественным продолжением его внутренней речи. Без всякого интеллектуального наряда и уж тем более какого-либо литературного кокетства. Он говорил, как писал, писал, как думал. И он специально не сочинял сюжетов. Казалось, что все совершается по воле самих героев, и сам автор не знает, куда они поведут его дальше. Поэтому, вероятно, Шварцу-драматургу почти всегда скорее всего удавался первый акт. Последующие акты ждали, когда действующие лица дальше захотят говорить. Может быть, потому Евгений Львович и похож на тех немногих писателей, которые не стеснялись брать сюжеты из хорошо всем знакомых источников. Найти хороший источник не значит еще, что к нему влечет бедность фантазии. Есть вечные источники человеческой правды и жизненной глубины. Таковы народные сказки. Таков и Андерсен. Не потому ли многие сказки Е. Шварца родились и прямо и косвенно из сказок Андерсена, такого близкого ему по складу творческого ума, по человеческой радости и затаенной печали? Но родившиеся из этого источника, они становились и новыми, и своеобразно иными. Сам Шварц жил в каждом из своих героев как человек наших дней, как живой свидетель всего, что происходит или может произойти в этом удивительном отраженном мире простого и реального вымысла. Ведь в самом деле, в каждой сказке Андерсена хватало достаточно и времени, и пространства, чтобы поместить в них и совершить еще одно новое, совершенно сказочное шварцевское чудо.
В этом совершенно сказочном вымысле формировались и основные, индивидуально-конкретные черты шварцевской поэтики. В неожиданности поворота мысли, и в смелости ассоциаций, и в иронических оттенках серьезности, и в детски наивной чистоте героического, и в гиперболическом глубокомыслии смешного и состояло своеобразие шварцевского стиля, мастерства словесной лепки характеров и сценического обаяния театральных сказок Евгения Шварца.
[На том этапе его жизни, когда он встретился с детским театром, а театр детей получил в его лице своего, может быть, единственного драматурга, который сумел, будучи еще очень молодым, уже найти путь к детской душе, к детским сердцам, к детской пытливости. Мы были молодыми, и он был молодой. На наших глазах Шварц приобретал какую-то особую значительность в ряду тех писателей, которые все творчество отдали театральному искусству. Он формировался и шел вместе с нами, но совершенно своим путем. Он был удивительный мастер того внутреннего слова, который он мог открывать в обычной жизни ребят. Там, где мы не придавали никакого особенного значения словам в разговоре с детьми, Шварц умел найти всегда особую глубину и тайный смысл. И он сам был интересен ребенку.] (11).
Е. Л. Шварц сам прекрасно читал свои пьесы. Его авторская манера читки скорее походила на публичное размышление, в котором автор хотел, казалось, подчеркнуть самое необыкновенное, что может произойти в обыкновенных условиях человеческой жизни. Словно он хотел удивить всех, кто слушает, тем, чему он сам, читая, удивляется.
Так читал знаменитый артист В. Н. Давыдов басни Крылова. "Скажите, пожалуйста, - как будто хотел он сказать, - ну, где было видно, чтоб лисица так пленилась сыром, что даже заговорила человеческим голосом!"
Е. Шварц читал свои пьесы в полном смысле слова удивительно. Когда он читал их, они производили гораздо большее впечатление, чем когда мы их ставили. Это была органическая связь человека-творца со своим произведением. Это было единое дыхание.
Именно в необыкновенности обыкновенного - секрет обаяния и остроты шварцевской выдумки.
И его кот, и собака, и медведь, и старушка-вострушка - Баба Яга, кокетничающая сама с собой перед зеркалом, и ее избушка на курьих ножках (великолепно сценически решенная режиссером П. К. Вейсбремом) - все эти персонажи в читке автора выступали как самые необыкновенные явления в нашем обыкновенном мире людей и вещей. Ну, как же тут не удивляться!
И когда, помню, Е. Шварц прочитал именно так удивительно свою сказку "Два клена", кто-то из актеров сказал тогда:
- Все правильно… Шварц пишет, как классик.
И нельзя было с этим не согласиться.
Необыкновенная любознательность Е. Л. Шварца граничила с фантастической одержимостью. В этой любознательности не было никакой стройной "программы по самообразованию". Она шла своим особенным высшим путем. Например, он мог подолгу стоять у какого-нибудь забора летом на отдыхе и рассматривать обыкновенную паутину. А потом дожидаться того момента, когда паук, почуяв муху, попавшую к нему в сеть, выползет из своей засады и, ловко передвигаясь по тончайшей ткани своего орудия смертной пытки, начнет творить свое злое дело…
И такое наблюдение не проходило для него бесследно. Он жадно всматривался во все мельчайшие проявления доброго и жестокого, смысла и бессмыслицы, расточаемых природой с неумолимым равнодушием ею самой установленных законов… Он почему-то вдруг заинтересовывался естествознанием… Вероятно, в этих раздумьях у него уже созревал замысел новой волновавшей его сказки. Сказки для взрослых…
- Удивительно, - говорил он, - паук работает математически точно, как инженер, и точно, как гениальный виртуоз-скрипач.
Он как-то вспомнил слова Л. Н. Толстого об относительности времени человеческой жизни: "От новорожденного до четырехлетнего - целая вечность. От четырехлетнего до меня - один миг…"
Шварц засмеялся:
- А сколько глупостей мы способны натворить за этот миг? Вероятно, больше, чем ребенок за четыре года…
Однажды, незадолго до своей последней болезни, Евгений Львович вспомнил свою давнюю беседу с ученым медиком.
- Вот мы говорим, что человек растет. А мне один академик рассказывал, что человек уже с малых лет медленно и неизбежно движется к концу, и он сам виноват в этом… - Шварц, сказав это, рассмеялся: - Растет к концу… Оказывается, конец на него все время наступает. В каждом нервном шоке. Например, споткнулся человек… - И он опять задрожал от своего внутреннего смеха: - Отсюда - мораль: не надо человека нервировать и не надо спотыкаться, по крайней мере, на каждом шагу… - И опять по лицу его пробежала смущенная улыбка.
С этой улыбкой он и остался в истории нашего советского театра, драматической поэзии и в истории человеческой дружбы.
1966
Клавдия Пугачева
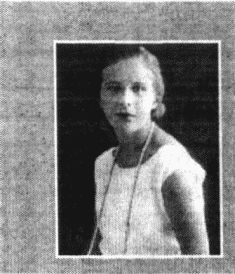
Шварц
1
Вспоминаю Женю Шварца. Как странно мне сейчас слышать, что он был мудрым. Слово "мудрый" к нему не шло. Был он веселым, добрым, дурашливым, заводным на всякие шутки.
Познакомил нас Павел Вейсбрем. Вейсбрем как режиссер помогал готовить программы брата Жени - Антона, известного чтеца (1).
Женя пришел к нам в ТЮЗ на "Четверги" Маршака. И остался. Помню Женю и брата его Антона в компании Хармса, Заболоцкого, Акимова (2). Мы звали их "мальчиками", Хотя они были старше нас. Тогда Акимов всячески вышучивал тюзовские порядки, называя ТЮЗ "Брянцевский монастырь". Шварцы, Хармс, Заболоцкий никогда над ТЮЗом не смеялись, наоборот, уважали Брянцева и его требования к актерам, сотрудникам, да и к зрителям тоже.
Знала я первую жену Шварца, но, главным образом, знала вторую его жену Катю, в которую он был влюблен без памяти. Женя бывал у меня, вернее, у Александры Яковлевны Бруштейн, когда я была замужем за ее сыном Мишей, дружил с Мишиной сестрой Надей, балериной (которая стала Надей Надеждиной, "Березкой").
Когда я уехала от Бруштейнов, Женя бывал у меня на квартире нашей актрисы Параскевы Михайловны Денисовой. Мы вместе с ним сочиняли всякие дурацкие истории, рассказывали в лицах нашим знакомым и получали большое удовольствие от их реакции.
[Они с Катей только поженились. Мебель была очень простая. Кажется, в двухкомнатной квартире дальше была комната, куда Катя уходила. На стене у них висел мой фотопортрет. Хармс играл в любовь ко мне и ходил к Шварцу смотреть на этот портрет. Катя это заметила. И они стали говорить, что в их дом вошла пугачевщина.
В письме от 10 февраля 1934 года Хармс писал мне: "…У Шварцев бываю довольно часто. Прихожу туда под разными предлогами, но, на самом деле, только для того, чтобы взглянуть на Вас. Екатерина Ивановна заметила это и сказала Евгению Львовичу. Теперь мое посещение Шварца называется "пугачевщина"…"
Борис Чирков не жалел времени для того, чтобы доставить радость своим друзьям. Однажды Чирков и еще несколько артистов нашего театра организовали мой день рождения, и еще привлекли Акимова и Шварца. Все были молодые и готовые на любые интересные затеи.
Придя днем в театр, я по лицам окружающих актеров поняла, что они что-то затеяли, уж больно они радовались и таинственно переговаривались, поздравляя меня. И действительно, когда я вошла к себе в комнату, где гримировалась, то я ее не узнала. Она вся была завешана и заклеена портретами Емельяна Пугачева. А над зеркалом висел большой эскиз к памятнику "Праправнучке Пугачевой", который сделал Акимов. На гримировальном столе лежала кипа книг по истории Пугачевского бунта. Цветы, стихи и прочие подарки…] (3).
Однажды я позвонила Жене, зная его доброту, и спросила, нужны ли им с Катей красивые тарелки, которые мне достались в "наследство" от Бруштейнов. Тарелки мне были не нужны, а деньги понадобились срочно. Женя ответил "Приноси, посмотрим". Когда мы с моей сестрой пришли к ним, они ахнули от красоты посуды. Катя заявила, что она всё берет. Женя спросил: "Сколько ты за них хочешь?" Я ответила: "По рублю за тарелку". Женя стал смеяться и обзывать меня разными словами. Я тоже смеялась вместе с ним. Катя останавливала нас, говорила, что я даже не представляю, что это за тарелки. А я действительно не разбиралась в фарфоре.
Тогда Женя предложил устроить аукцион. Я поднимала тарелку, они кричали цену, а я должна была спрашивать: "Кто больше?" Женя каждый раз набавлял цену. Было шумно и весело. Я думала, что мы играемся, но когда я стала уходить Женя с Катей выложили мне такую сумму денег, что я отказалась брать. "Вы что, с ума сошли?" - кричала я. А Катя и Женя кричали: "Это ты сошла с ума, мы знаем цену, а ты нет. Бери, пока у нас есть деньги. Это нам просто посчастливилось, что мы сразу можем расплатиться". Долго спорили. Я взяла ровно половину.
Потом Женя при встрече со мной всякий раз говорил: "Можно я тебе отдам еще 20 копеек в счет того?" И у нас с ним образовалась такая игра: почему 20? А вот 10 я возьму, а остальное - потом. Никто ничего не понимал, но в театре все знали, что мы торгуемся. Мы всерьез разыгрывали эту сцену. Меня долго спрашивали: "Он что, брал в долг? Почему не отдает сразу? А чего ты отказываешься?" Я делала таинственное лицо, говоря: "У нас с ним свои счеты" - "А, так ты ему тему подсказала!" - "Нужны ему мои темы, у него самого их до черта".
Я очень любила Женю, но часто дразнила его братом Антоном: "Вот это фигура, вот это талант, какая внешность, какой голос! А что ты, Женя? Средненький, кургузенький, и как только Катя, такая красавица, влюбилась в тебя. Я бы ни за что!" Тогда Женя начинал играть. Он хватался за голову, рыдал, рвал на себе одежды. Я успокаивала его, что он будет еще красивее Антона и будет любим всеми женщинами. Кончалась эта игра тем, что мы оба кидались друг другу на шею, и все вокруг говорили: "Вот дурачье, и когда все это кончится!"
Зато наши дурачества очень любили самые маленькие зрители ТЮЗа (конечно с ними речь шла не об Антоне!). Женя обожал играть с детьми, и мы вместе с ним часто организовывали игры с младшими группами зрителей в антрактах. Какие только парики он ни надевал, каким только зверем он ни рычал, ни блеял, ни мяукал. Только что бабочкой не летал.
Женя с Катей помогали многим нашим общим знакомым. У меня был приятель, еще по Павловску, Саша Стивенсон - белокурый, хрупкий юноша. Вообще-то он был Ственсон, и в детстве говорил по-английски лучше, чем по-русски. Родители его дружили с Шуленбургами. Шуленбурги с детьми уехали за границу, а Ственсоны погибли, и Саша пошел работать молотобойцем в какую-то фабрику. Как он молот поднимал, не знаю. В ТЮЗе он бывал каждый вечер, помогал рабочим сцены, иногда даже ночевал, по секрету от Брянцева. Был он вечно голодным. Женя с Катей его подкармливали. Женя написал:
Ходит Саша Стивенсон
Без носок и баз кальсон.
Если снять с него штаны,
Будут все удивлены.
К зиме Шварцы купили ему пальто, а я - ботинки.
Бывали, конечно, и серьезные разговоры. В ТЮЗе увлекались системами. У Брянцева была своя система, у Макарьева - своя, у Зона - своя. Мальчики - Шварц, Хармс, Акимов - принимали в этих спорах горячее участие. Одно время Шварц носился с идеей, что в детском театре сказка - это "театр амплуа". Хармс и Акимов называли его архаистом, консерватором. Меня, скажу честно, это меньше интересовало. Много лет спустя Сережа Мартинсон рассказывал мне, как он принимал участие в этюдах Станиславского. Тема этюда была - "крах банка". Кто-то из студийцев метался, кто-то стоял как статуя. Мартинсон сел в кресло-качалку и начал размахивать тросточкой. Станиславский спрашивает у него: "Вы почему не участвуете?" Сережа отвечает: "У меня деньги в другом банке". Станиславский вздохнул и говорит: "Мартинсону моя система ни к чему".