Именно тогда у меня возник серьезнейший вопрос: о чем же и для кого я буду снимать картину? По этому сценарию можно сделать смешную комедию для взрослых, где история с чудаковатым доктором Айболитом будет, скорее, поводом для забавного разговора, - например, на темы дня. Акценты легко сместить: для взрослого зрителя ведь сразу очевидно, что все это кончится благополучно, что Айболиту, похищенному "такими разбойничками", ничего не грозит. Подробности, перипетии сюжета существенны только для ребят - самых доверчивых и искренних зрителей. И впоследствии это подтвердилось на многочисленных просмотрах: ребята так переживали за доктора, и так боялись разбойничков, и в то же время так хохотали над ними, что на одном из просмотров в Доме ученых уборщицы под стульями обнаружили лужицы… <…>
Итак, мы сошлись на том, что главное в фильме - все же образ доброго доктора… Как же показать доброту в действии?..
Стоп, стоп! Доктор должен быть таким добрым, чтобы в любой ситуации, в которой, казалось бы, человек обязательно должен разозлиться, поступать по-хорошему, по-доброму. Например, он не может повысить голос на человека…
Стоп… стоп! А что, если в сцене, когда он выгоняет злую сестрицу Варвару, обидевшую зверушек, он будет не кричать на нее, а говорить просительно, как бы извиняясь…
- Вы меня вы-го-ня-ете? - орет Варвара.
- Выгоняю! - жалостным голосом говорит Айболит.
Да, так может вести себя только действительно очень добрый, хороший человек. Впервые я облегченно вздохнул: в душе я был уверен, что найден верный ключ к образу…
Поезд мчал меня из Ленинграда, а в мыслях я перебирал фамилии знакомых художников, композиторов и, главное, актеров. Оператор у меня уже был - Ляля Петров, с которым мы уже сняли три картины. Неизвестно почему его звали Лялей, когда он был Александр, - наверное, за добрый нрав и юмор.
Очень важно было найти хорошего художника. Я подумал: художники, работавшие в кино, уже слишком набили руку на реалистических картинах; может, поискать среди театральных? Вспомнил было замечательную "Синюю птицу" во МХАТ, но тут же отбросил эту мысль. Да разве пойдет к нам В. Е. Егоров - знаменит, завален работой, не пойдет…
И все же на другой день мы с ассистентом режиссера Толей Ульянцевым были у художника В. Егорова.
- Ну, рассказывайте, зачем пожаловали? Только я ведь очень занят!
- А мы знаем, - сказал я, взглянув на Толю. - Но мы влюблены в вашу "Синюю птицу" и, как влюбленные, надеемся на милость.
Дальше я рассказал о сценарии, о всем надуманном со Шварцем и увидел, что в глазах Владимира Евгеньевича Егорова появилась заинтересованность. Рассказал о разбойниках, о том, какие шикарные и смешные костюмы им можно сделать, об их таинственной пещере, запирающейся огромнейшим замком "во весь павильон"…
Владимир Евгеньевич слушал и что-то чертил карандашом.
- Ну, разбойнички - это не сложно, а вот Айболит - какой он? Наверное, должен быть совсем простым; пелерина, зонтик, большая черная шляпа и, главное, грим.
Он протянул нам рисунок - и мы с Толей увидели настоящего Айболита…
- Урра! - заорал я, за мной - Толя, мы поскакали по комнате, напевая; - Добрый доктор Айболит, Айболит, Айболит!
Владимир Евгеньевич хохотал.
С этого дня мы не только получили первоклассного художника, но и подружились на всю жизнь и сняли не одну картину.
Мы вышли от Владимира Евгеньевича окрыленные. Теперь было понятно, какого актера искать. А то перебрали уже невесть сколько, по существу не зная, чего хотим. Кого только не пробовали, какие только усы и бороды не приклеивали! Вся гримерная хохотала, а директор группы обозлился.
- Сами в детей не превращайтесь! - порекомендовал он.
Стали думать об актере. Поджимали сроки, торопила дирекция, я не спал ночей… И вот как-то бессонную ночь я вдруг вспомнил спектакль по пьесе Натана Зархи "Улица Радости" в Театре Революции. Максим Штраух необыкновенно по-доброму играл там старика… Я подпрыгнул на постели, вскочил звонить по телефону Толе Ульянцеву…
- Ты знаешь, сколько сейчас времени… - разозлился он. - Три часа. Ты в своем уме? Да и потом, ни за что он не согласится! У каких режиссеров снимается, в театре играет!..
Максим Максимович Штраух жил рядом с кинотеатром "Колизей". Я знал, что человек он нелегкий, своеобразный. Я мучительно готовился к разговору, искал, чем бы его заинтересовать. Перед дверью в его квартиру вдруг мелькнула мысль: а что, если доктор у нас после нелегкого боя с разбойником Беналисом будет сидеть в кресле среди своих зверюшек и вязать, как заправская бабушка… Не успев додумать, я вошел.
Штраух встретил меня очень вежливо и очень сдержанно. Надо было как-то начать разговор.
- Вы, наверное, уверены, что я знаю, какой он, доктор Айболит, как он выглядит… Пока не знаю, но думаю узнать с вашей помощью. Хорошо помню вашего старика из "Улицы Радости" - он меня тронул до слез. Поэтому и решил обратиться к вам.
- А какое отношение друг к другу имеют эти роли?
- Наверное, не имеют, но артист, сыгравший так старика, думаю, прекрасно сыграет и Айболита!
Я рассказал Штрауху обо всем, что мы напридумывали со Шварцем для доктора Айболита, - о том, как он разговаривает, как обращается с животными, как ведет себя дома…
Проговорили мы очень долго. Провожая меня, Максим Максимович усмехнулся.
- А ваш доктор Айболит мне нравится. <…>
Работа со Штраухом началась с места в карьер. Искали манеру поведения, грим, костюм. Многое предварительно было продумано, и дело пошло быстро. <…>
И вот наступает один прекрасный день или, наоборот, ужасный день - день первого просмотра. Для меня этот просмотр прошел как в кошмаре. Мне все казалось плохим, неудавшимся, казалось, что все нужно было делать совсем не так, и я совершенно искренне удивился, когда в зале раздавался смех. Мне смешно не было.
Наконец просмотр закончился, все повернулись в сторону директора: он сидел с непроницаемым лицом, и для тех, кто обычно ориентировался на директорское мнение, не было ориентира.
- Ну, что ж, пойдем поговорим! - сказал директор поднимаясь, а мне послышалось в его словах: "Пойдемте-ка, голубчик, мы тебя раздолбаем!"
Я поплелся в директорский кабинет, как осужденный преступник, не глядя никому в глаза. "Проклятая профессия! - думал я. - Почему я не инженер, не строю мосты или дома?.. Построил - и никаких волнений; ходите, живите, люди добрые…"
Обсуждение начал один из режиссеров, мастер долго говорить и ничего не сказать. Поскольку все это уже знали, то его никто внимательно не слушал. Потом заговорил художник, который очень невнятно говорил что-то о поисках, о чем-то новом, но так невнятно, что никто не понял, хвалит ли он или ругает фильм.
Да, так бывает. Съемочная группа честно и беззаветно в течение года отдавала все свои силы и способности, чтобы сделать веселую, остроумную сказку для ребят, и вот награда! Казалось, что о нашей каторжной работе судят поверхностно. Кое-кто занят был лишь тем, как бы "выступить" пооригинальнее, словом, показать свое "я". Другие говорили о картине просто равнодушно. Два-три человека похвалили картину, но это уже не могла меня успокоить. <…>
Какие тяжелые дни я пережил до первого общественного просмотра! Сколько слышал я обидного! И все думалось, какими жестокими бывают иногда даже как будто близкие друзья, во всяком случае, люди, хорошо относящиеся к тебе…
Несколько меня утешил Максим Максимович Штраух. На просмотре он сел в первые ряды, далеко от меня, и, когда кончилась картина, повернулся, улыбнулся своей всегда немного загадочной улыбкой и сказал: "Впечатление наиблагоприятнейшее!" - а потом добавил: "А вы молодец, я, признаться, не заметил, где вы, а где я! Могли бы и сами сыграть…"
Мы оба рассмеялись. Я был счастлив…
Так вот меня и кидало то в жар, то в холод.
И вот просмотр в Доме ученых (5).
У меня где-то далеко внутри была уверенность, что картина получилась, что ее будет принимать зритель. Но тут, на утреннике, зал заполнила детская аудитория, для которой и делался фильм. Вообще ребята - замечательные зрители, и для меня так отрадно было слышать, как они реагировали на "бой" с разбойниками, на то, как доброго доктора Айболита Беналис тянул на веревке в страшную пропасть, как мчалась Авва на спасение доктора, а за ней - все звери, Пента и отец Пенты…
Нет на свете слаще музыки, чем та, которую я услышал на просмотре. Веселый ребячий смех, выкрики, аплодисменты, хохот все это сливалось для меня в волшебную мелодию. Я понял, что правильно в свое время решил делать этот фильм для ребят, и на секунду похолодел, когда подумал, что ведь мог и не решиться этого сделать…
После просмотра мы сидели в комнате у директора Дома ученых, и я спросил: "Ну, как, по-вашему?" "Вы же сами все видели, - ответила она, - а главное, слышали…"
То же остается написать?
Очень на многих просмотрах "Айболита" я побывал, и всегда его прекрасно принимала детская аудитория. И пресса была обширная, доброжелательная. И даже те товарищи, которые критиковали картину, тоже поздравляли меня и с ясными глазами хвалили… <…>
Вот так складывалась судьба одной из самых трудных и радостных работ в моей жизни…
Вениамин Каверин
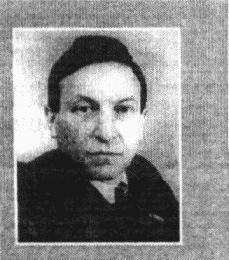
Евгений Шварц
…Все люди не похожи друг на друга, но отношения между Шварцем и всем остальным человечеством были столь не похожи на любые общепринятые отношения, что он сразу стал в моих глазах личностью исключительной по иронии, уму, доброте и благородству. Его любимыми писателями были Андерсен и Чехов. От первого он взял добрый, но подчас горький сарказм, от второго - благородство души (1). Лишь после его смерти мы узнали, как трудно, с какими мучительными усилиями он работал. Это относится к каждой строчке, написанной им.
Ему было свойственно то, без чего любой талант, даже такие противоположные дарования, как Северянин и Брюсов, не может остаться в литературе или даже надолго задержаться в ней. Талант этот называется просто - вкус. Я работаю в литературе много лет, но знаю только трех писателей, обладавших абсолютным вкусом. Это были Ю. Тынянов, К. Чуковский и Е. Шварц.
Когда будут наконец напечатаны мемуары Шварца (2), я думаю, в них найдется немало подтверждений этой оценке.
Понятия чести, доброты, благородства редко предстают перед нами в такой цельности, которая была свойственна его личности. Он был добр без оговорок, честен без скидок на любые обстоятельства, и благороден, как дети, еще не знающие, что такое добро и зло. Все эти черты, да и многие другие, не менее характерные, отчетливо отражены в его произведениях.
И при этом всегда казалось, что он недоволен собой. Но все, что я рассказывал выше, - результат длительного знакомства, и чтобы рассмотреть эти черты, надо пробиться через его иронию, которая занимала в его литературной и жизненной позиции, может быть, самое значительное место. Он любил меткую остроту и сам был блестящим остряком. Он не прощал ни подлости, ни лицемерия и подчас искусно прятал это под маской остроумца, любителя шутливой болтовни. Таковы же были его произведения. Он писал свои сказки корявым детским почерком, медленно, но не показывал никому, какого они стоили мучительного труда и самоотверженного терпения.
Я смело поставил бы рядом с его блестящими сказками очерки, которые, мне кажется, он даже не публиковал при жизни (3). Можно ли при одном взгляде вскрыть внутреннюю сущность человека так же, как хирург своим острым ланцетом вскрывает его тело? Читая очерки Шварца, убеждаешься, что это не только возможно, но естественно для строгого и беспристрастного взгляда на мир. При этом он каждый раз оценивает себя, он никого не судит, кроме самого себя. Великолепен очерк о том, как ему не пишется, как он идет в типографию и видит там разумных, трезво и дельно работающих людей. Он спрашивает себя: почему так же спокойно, размеренно, деловито и целеустремленно не идет работа, составляющая смысл и цель его жизни? (4) Вопрос остается открытым, тут уже нет места спасительной иронии, нет попытки скрыться от себя самого. Я не сомневаюсь, что в его мемуарах отражен контур характера, набросанный пунктиром…
Мы переписывались: первые письма относятся к тем временам, когда блокада Ленинграда разлучила нас, разорвав отношения, сложившиеся в течение двух десятков лет. Он с женой был эвакуирован в Киров, я из ленинградской блокады вышел больной и лечился в Перми, найдя после долгих тревожных поисков свою семью, о которой я долго не имел никакого представления. Пьеса, которую я написал в Перми, называлась "Дом на холме" и была поставлена во многих театрах. Шварц увидел ее в Кирове и сказал мне, что он испугался. Пьеса была, по его мнению, не только плоха, но почти неприлично плоха. Я согласился.
Другие письма относятся к более позднему времени, когда мы уже жили в Москве, а Шварцы вернулись в Ленинград. Мы увиделись, но он был тяжело болен, а когда мы снова увиделись, положение его было почти безнадежным. Но он не верил в смерть и не хотел умирать.
Последним его утешением, может быть, был вечер, которым Союз писателей отметил его шестидесятилетие. Я приехал из Москвы и, выступая, сказал на этом заседании примерно то, что вы прочитали.
1961
Ланцелот
1
Помнится, мы с тобой говорили, что иным людям удается прожить не одну, а две жизни. Биография Артюра Рембо появилась тогда в русском переводе, и мы были поражены историей поэта, который двадцати лет уехал в Африку и стал рабовладельцем, безжалостным добытчиком золота, носившим это золото в кожаном ремне, который он никогда не снимал. Он умер от опухоли, образовавшейся вследствие постоянного трения этого пояса о голое тело, умер, не зная, что вся Франция зачитывается его молодыми стихами. Если бы он это знал, ему пришла бы в голову простая мысль, что удалась-то как раз его первая, нищая, беспокойная жизнь и не удалась вторая, с ее пиратской роскошью и гаремами невольниц.
Ты не стал богатым человеком, как Артюр Рембо, и не променял свою поэзию на торговлю рабами.
Я вспомнил о нашем разговоре только потому, что все та же горькая мысль приходит всем, кто любил тебя: слава явилась к тебе, когда мы тебя потеряли…
2
Мне всегда казалось, что подлинный писатель бессознательно открывается, когда он еще не умеет не только писать, но читать.
До литературы письменной, воплощенной в романе, рассказе, пьесе, возникает литература устная, и подчас переход от второй к первой затягивается на годы. Так случилось с Евгением Шварцем. Он был писателем уже тогда, когда пятилетним мальчиком попал в кондитерскую и испытал чувство, для которого (вспоминая свое детство) не нашел другого выражения, как "чувство кондитерской". "Сияющие стеклом стойки, которые я вижу снизу, много взрослых, брюки и юбки вокруг меня, круглые маленькие столики. И зельтерская вода, которую я тогда назвал горячей за то, что она щипала язык. И плоское, шоколадного цвета пирожное, песочное. И радостное чувство, связанное со всем этим, которое я пронес сквозь пятьдесят лет, и каких еще лет! И до сих пор иной раз в кондитерской оно вспыхивает всего на миг, но я узнаю его и радуюсь".
Он был писателем, когда после первого посещения театра "вежливо попрощался со всеми: со стульями, со сценой, с публикой. Потом подошел к афише. Как называется это явление, не знал, но, подумав, поклонился и сказал: "Прощай, писаная"".
Если бы уже тогда у него не было способности по-своему относиться к явлениям внешнего мира, он не испытал бы запомнившегося на всю жизнь "чувства кондитерской" и не стал бы прощаться с афишей.
И когда девятнадцатилетним юношей я впервые встретился с ним, он еще не был писателем в общепринятом смысле этого слова, потому что ничего не писал. Но "устным писателем" он был - и выдающимся, талантливым, оригинальным.
Он приехал в Петроград вместе с маленьким Ростовским театром, вскоре распавшимся, и быстро сблизился с молодой группой "Серапионовых братьев".
На вечере, которым московский Литературный музей отметил восьмидесятилетие Шварца, выступила К. Н. Кириленко, много лет занимающаяся мемуарами Евгения Львовича, хранящимися в ЦГАЛИ. Из отрывка, который она прочитала, я впервые узнал, что знакомство с Серапионами было связано с одной из его бесчисленных попыток подойти к возможности работать в литературе.