Термин "лечебная педагогика" вскоре надолго ушел из лексики отечественных педагогов и психологов, однако в последнее время исследователи вновь к нему обращаются. Под лечебной педагогикой понимается система лечебно-педагогических мероприятий, имеющих целью предупреждение, лечение и коррекцию отклонений в развитии ребенка.
В первые годы советской власти остро встала задача борьбы с детской беспризорностью. В. П. Кащенко совместно с деятелями народного образования - А. И. Елизаровой (Ульяновой). Г. И. Россолимо, А. С. Грибоедовым и др. - отдал много сил делу подготовки съездов и конференций по вопросам детской дефективности. Значительным событием в этом отношении явился Первый всероссийский съезд деятелей по борьбе с детской дефективностью, беспризорностью и преступностью, который проходил в Москве в 1920 г. Председателем организационного комитета съезда был В. П. Кащенко. Через год в Москве была проведена Всероссийская конференция по борьбе с детской дефективностью. Всеволод Петрович выступил с докладом, в котором пытался сформулировать теоретические основы специальной педагогики.
"Исправление глубоких недостатков характера ребенка… осуществимо в первую очередь через воспитание. Сотрудничество врача и педагога… - вот единственно возможный путь борьбы с психопатическими и нервными состояниями и заболеваниями в детском возрасте".
Все время и силы Всеволод Петрович отдавал главному делу своей жизни - воспитанию и обучению исключительных детей. Однако далеко не всегда встречал понимание со стороны государства. В 1926 г. он был освобожден от должности директора Медико-педагогической станции. А созданный им Музей исключительного детства уничтожен. В Музее хранились игрушки, рисунки, поделки из дерева, а также коллекция портретов известных отечественных и зарубежных исследователей аномальных детей - все это уже никогда не удастся восстановить. Всеволоду Петровичу не отказало мужество, и он продолжал работать.
В 1928 г. В. П. Кащенко вошел в состав редколлегии журнала "Вопросы дефектологии" и оставался ее членом вплоть до закрытия журнала в 1931 г. (с 1968 г. издается журнал "Дефектология").
С 1928 г. и до конца жизни В. П. Кащенко много работал над проблемами логопедии, будучи профессором - консультантом поликлиники Комиссии содействия ученым при Совнаркоме СССР и поликлиники Второго медицинского института.
В 1938 г. Всеволоду Петровичу Кащенко была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук без защиты диссертации.
В последние годы В. П. Кащенко много болел. Он умер в Москве 30 ноября 1943 г., похоронен на Новодевичьем кладбище.
В. П. Кащенко принадлежит около 25 печатных работ в виде монографий и статей в трудах различных съездов, сборниках, посвященных общим проблемам дефектологии, истории обучения и воспитания дефективных детей. Около 20 работ выполнено под руководством В. П. Кащенко.
Научные достижения Всеволода Петровича Кащенко обращены в будущее. В вышедшей в наше время уже третьим изданием книге "Педагогическая коррекция" (а автор работал над ней в 30-е гг.) мы читаем: "Когда я пишу эти строки, то вижу глаза не только сегодняшних читателей, но и тех, кто раскроет мой труд завтра… я не сомневаюсь, что вдумчивый читатель и в будущем извлечет из написанного мною поучительный смысл". "Создаются учебные заведения и факультеты для подготовки педагогов-специалистов, способных решать проблему дефектологии, созываются специальные съезды, открываются медико-педагогические учреждения, проводится научно-просветительская работа среди населения, издается соответствующая литература. Во все это автор в меру своих сил внес свою лепту и автор счастлив сознанием того, что его вклад принес известную пользу, что брошенные им семена дали всходы и жизнь, всецело отданная высшим побуждениям, прожита не напрасно".
Почему сегодня мы обращаемся к строчкам, написанным более полувека назад? Ответ прост: проблемы, затронутые Всеволодом Петровичем Кащенко, волновали, волнуют и будут волновать человечество всегда. "Главное, чем все эти годы был озабочен мой ум и чем болела душа, - это проблема ребенка".
Л. С. Выготский (1896–1934)
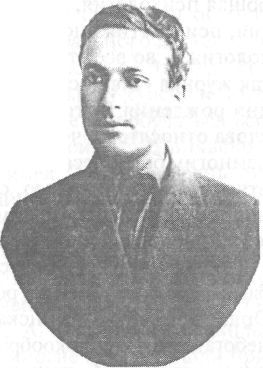
Выдающийся советский психолог А. Р. Лурия в научной автобиографии, отдавая дань своему наставнику и другу, писал: "Не будет преувеличением назвать Л. С. Выготского гением". В унисон звучат и слова Б. В. Зейгарник: "Он был гениальный человек, создавший советскую психологию". С этими оценками, наверное, согласится любой российский психолог - по крайней мере, каждый, кто не пожелал под напором рыночной стихии сменить квалификацию психолога на массовика-затейника или толкователя снов. По сей день идеи Выготского и его школы составляют основу научного мировоззрения тысяч настоящих профессионалов, в его научных трудах черпают вдохновение новые поколения психологов не только в России, но и по всему миру.
Биография Л. С. Выготского не богата внешними событиями. Жизнь его была наполнена изнутри. Тонкий психолог, эрудированный искусствовед, талантливый педагог, большой знаток литературы, блестящий стилист, наблюдательный дефектолог, изобретательный экспериментатор, вдумчивый теоретик. Все это так. Но прежде всего Выготский был мыслителем.
"Лев Семенович Выготский бесспорно занимает исключительное место в истории советской психологии. Именно он заложил те основы, которые стали исходными для ее дальнейшего развития и во многом определили ее современное состояние… Нет почти ни одной области психологических знаний, в которую Л. С. Выготский не внес бы важного вклада. Психология искусства, общая психология, детская и педагогическая психология, психология аномальных детей, пато- и нейропсихология - во все эти области он внес новую струю" - так журнал "Вопросы психологии" писал к 80-летию со дня рождения Выготского. Трудно поверить, что эти слова относятся к человеку, посвятившему психологии немногим более десяти лет своей жизни, и лет нелегких, отягощенных болезнью, сведшей его в могилу, сложностями быта, отнимавшими время от трудов и размышлений, непониманием и даже травлей.
Лев Семенович Выготский, второй из восьми детей банковского служащего, родился 5(17) ноября 1896 г. в Орше, недалеко от Минска. Его родители были людьми небогатыми, но высокообразованными, владели несколькими языками. Их примеру последовал и сын, в совершенстве овладевший английским, французским и немецким.
В 1897 г. семья переехала в Гомель, который Выготский всегда считал своим родным городом. Здесь прошли его детские годы, здесь в 1913 г. он с отличием закончил гимназию. Продолжить образование Выготский решил в Московском университете. Ему повезло, он попал в "процентную норму" для лиц еврейского происхождения. Перед этой категорией молодых людей выбор факультетов был невелик. Наиболее реальные перспективы профессиональной карьеры сулила специальность либо врача, либо юриста. При выборе специальности юноша поддался уговорам родителей, которым казалось, что медицинское образование сможет обеспечить сыну в будущем интересную работу и средства к существованию. Но занятия на медицинском факультете не увлекли Выготского, и менее чем через месяц после поступления в университет он перевелся на юридический факультет. Окончание этого факультета открывало возможности поступления в адвокатуру, а не на государственную службу. Это давало разрешение жить вне "черты оседлости".
Наряду с государственным университетом Выготский посещал занятия в учебном заведении особого типа, созданном на средства либерального деятеля народного образования А. Л. Шанявского. Это был Народный университет, без обязательных курсов и посещений, без зачетов и экзаменов, где мог обучаться всякий желающий. Диплом Университета Шанявского официального признания не имел. Однако уровень преподавания был там чрезвычайно высок. Дело в том, что когда после студенческих волнений 1911 г. и последовавших за этим репрессий Московский университет в знак протеста против политики правительства покинули свыше ста выдающихся ученых (в их числе К. А. Тимирязев, В. И. Вернадский, С. А. Сакулин, С. А. Чаплыгин, Н. Д. Зелинский и др.), многие из них нашли приют в народном Университете Шанявского. Психологию и педагогику в этом университете преподавал П. П. Блонский.
В Университете Шанявского Выготский сблизился с либерально настроенной молодежью, а его наставником стал известный литературный критик Ю. Айхенвальд. Сама атмосфера народного университета, общение с его студентами и преподавателями значили для Выготского намного больше, чем занятия на юридическом факультете. И вовсе не случайно, что годы спустя, тяжело больной, он обратился с просьбой об издании своих работ именно к Айхенвальду.
Конечно, и юридическое образование наложило отпечаток на его мировоззрение. Друг его юности С. Ф. Добкин вспоминал, как в 1916 г., приехав на каникулы в Гомель, Выготский вместе с товарищами организовал своеобразный "литературный суд". Для обсуждения был избран рассказ М. Гаршина "Надежда Николаевна", герой которого совершает убийство из ревности. При распределении ролей Выготскому предстояло выбрать роль либо прокурора, либо защитника. Он соглашался и на то и на другое, готовый отстаивать противоположные точки зрения. Товарищей это поначалу удивило: как же так - хоть суд и литературный, но возможно ли защищать любую из непримиримых позиций? Добкин пишет: "Потом я понял, в чем тут было дело. Он умел увидеть аргументы в пользу как одной, так и другой стороны. Именно такой подход к обстоятельствам дела воспитывали у будущего юриста на факультете. Но Лев Семенович и по самому складу мышления был чужд односторонности, предвзятости, излишней уверенности в правильности именно такой-то концепции. Замечательная способность понимать не только то, что было ему внутренне близко, но и чужую точку зрения, характерна для всей его научной деятельности".
Интерес к психологии пробудился у Выготского в студенческие годы. Первые книги из этой области, о которых с достоверностью известно, что они были им прочитаны, - это известный трактат А. А. Потебни "Мысль и язык", а также книга У. Джемса "Многообразие религиозного опыта". С. Ф. Добкин называет также "Психопатологию обыденной жизни" 3. Фрейда, которая, по его словам, сильно заинтересовала Выготского. Вероятно, этот живой интерес впоследствии привел Выготского в ряды Русского психоаналитического общества, что, впрочем, явилось нехарактерной страницей его научной биографии. Судя по его трудам, идеи Фрейда заметного влияния на него не оказали. Чего, напротив, не скажешь о теории А. Адлера. Понятие компенсации, центральное для индивидуальной психологии Адлера, впоследствии становится краеугольным камнем дефектологической концепции Выготского.
Зародившееся в студенческие годы увлечение психологией определило всю последующую судьбу Выготского. Сам он об этом писал так: "Еще в университете занялся специальным изучением психологии… и продолжал его в течение всех лет". И позже подтверждал: "Научные занятия по психологии начал еще в университете. С тех пор ни на один год не прерывал работы по этой специальности". Небезынтересно, что специального психологического образования как такового в ту пору практически не существовало, и Л. С. Выготский, подобно большинству пионеров этой науки, дипломированным психологом не был.
В официальной справке о своей научно-исследовательской работе Выготский записал: "Начал заниматься исследовательской работой в 1917 г., по окончании университета. Организовал психологический кабинет при педтехникуме, где вел исследования".
Эти слова относятся к гомельскому периоду его деятельности. В родной город Выготский вернулся в 1917 г. и занялся преподавательской работой. В Гомеле им были написаны две большие рукописи, вскоре привезенные в Москву, - "Педагогическая психология" (издана в 1926 г., новое издание вышло в 1991 г.) и "Психология искусства", защищенная как диссертация, но опубликованная лишь через много лет после его смерти, а до того ходившая в списках и пользовавшаяся популярностью как среди немногочисленных в то время психологов, так и среди деятелей искусства. Оба произведения дают основание оценить уже "раннего" Выготского как зрелого самостоятельного мыслителя, высокоэрудированного и ищущего новые пути разработки научной психологии в той исторической ситуации, когда психология на Западе охвачена кризисом, а в России идеологическое руководство страны требовало внедрить в науки принципы марксизма.
В России в предреволюционный период в научном изучении психики возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, существовали психологические центры (главный из них - Психологический институт при Московском университете), где доминировала отживавшая свой век психология сознания, которая строилась на субъективном методе. С другой стороны, руками русских физиологов была создана наука о поведении, опиравшаяся на объективный метод. Ее исследовательские программы (авторами которых являлись В. М. Бехтерев и И. П. Павлов) позволили изучать закономерность механизма поведения исходя из тех же принципов, которым следуют все естественные науки. Концепция сознания оценивалась как идеалистическая. Концепция поведения (основанная на условных рефлексах) - как материалистическая. С победой революции, когда государственно-партийные органы потребовали повсеместно истребить идеализм, эти два направления оказались в неравном положении. Рефлексология (в широком смысле) получала всемерную государственную поддержку, тогда как со сторонниками воззрений, считавшихся чуждыми материализму, расправлялись с помощью различных репрессивных мер. В этой атмосфере Выготский занял своеобразную позицию. Он обвинил повсеместно торжествовавших свою победу рефлексологов в дуализме. Его первоначальный план сводился к тому, чтобы объединить знание о поведении как системе рефлексов с зависимостью этого поведения, когда речь идет о человеке, от сознания, воплощенного в речевых реакциях. Эту идею он положил в основу своего первого программного доклада, с которым выступил в январе 1924 г. в Петрограде на съезде исследователей поведения.
Речь докладчика, "просвещенца" из Гомеля, обратила на себя внимание участников съезда новизной мысли, логикой изложения, убедительностью аргументов. Да и всем своим обликом Выготский выделялся из круга привычных лиц. Четкость и стройность основных положений доклада не оставляли сомнений, что провинциал хорошо подготовлен к представительному собранию и удачно излагает лежавший перед ним на кафедре текст. Когда же после доклада один из делегатов подошел к Выготскому, то с удивлением увидел, что никакого текста пространного доклада не было. Перед выступавшим лежал чистый лист бумаги. Этим делегатом, пожелавшим выразить восхищение выступлением Выготского, был уже хорошо известный, несмотря на свою молодость, своими экспериментальными работами (которым патронировал сам Бехтерев) и своими занятиями психоанализом - (с ним переписывался сам Фрейд), а впоследствии и всемирно известный психолог А. Р. Лурия. В своей научной биографии Лурия писал, что жизнь свою делит на два периода: "маленький, несущественный - до встречи с Выготским, и большой и существенный - после встречи с ним".
Доклад, сделанный Выготским, произвел на Лурию такое впечатление, что он, несмотря на молодость, бывший уже тогда ученым секретарем Психологического института, сразу бросился убеждать К. Н. Корнилова, возглавлявшего институт, немедленно, сейчас же этого никому не известного человека из Гомеля переманить в Москву. Выготский предложение принял, переехал в Москву, и его поселили прямо в институтском подвале. Работать он начал в непосредственном сотрудничестве с А. Р. Лурией и А. Н. Леонтьевым. Он поступил в аспирантуру и формально был как бы учеником Лурии и Леонтьева, но сразу же стал, по существу, их руководителем - образовалась знаменитая "тройка", переросшая потом в "восьмерку". Никто из входивших в эти своеобразные объединения молодых людей тогда не предполагал, что судьба столкнула их с замечательным человеком, который в свои 27 лет уже был сложившимся ученым. Они не знали, что в 19 лет он написал замечательную работу "Трагедия о Гамлете, принце Датском" и ряд других хорошо известных сегодня работ (психологический анализ басен, рассказов И. А. Бунина), что до приезда в Москву он успел выработать совершенно новый взгляд на психологию искусства и его роль в жизни человека, по сути дела, заложив основы психологического подхода к литературному творчеству. Сам Выготский об этих своих трудах не упоминал, а его товарищам по работе в Психологическом институте не приходило в голову, что У него может существовать еще один обширный круг интересов - настолько глубокими были мысли, которыми он с ними делился, что, казалось, они не могут оставить в сознании человека места ни для чего другого.
Мысль Выготского развивалась в совершенно новом для тогдашней психологии направлении. Он впервые показал - не почувствовал, не предположил, а аргументированно продемонстрировал, - что наука эта находится в глубочайшем кризисе. Лишь в начале восьмидесятых в собрании его сочинений будет опубликован блестящий очерк "Исторический смысл психологического кризиса". В нем взгляды Выготского выражены наиболее полно и точно. Работа написана незадолго до смерти. Он умирал от туберкулеза, врачи дали ему три месяца жизни, и в больнице он лихорадочно писал, чтобы изложить свои главные мысли.
Суть их в следующем. Психология фактически разбилась на две науки. Одна - объяснительная или физиологическая, она на самом деле раскрывает смысл явлений, но оставляет за своими границами все сложнейшие формы человеческого поведения. Другая наука - описательная, феноменологическая психология, которая, наоборот, берет самые сложные явления, но лишь рассказывает о них, потому что, по мнению ее сторонников, явления эти недоступны объяснению.