Экзальтация - это Бестужев-Рюмин, его дар слова, который гипнотизировал Соединенных славян и был "музыкой" тайного общества. Но в дни упадка молодость духа оборачивается некоей странной, талантливой, страшной искренностью.
"Обвиняемый многими, не будучи в состоянии дать неопровержимые доказательства ложности их утверждения, я предпочел лучше согласиться, чем оставить у Комитета малейшее сомнение в моей искренности. Я не хочу, чтобы сказали, что я упорствую по той причине, что не применяются пытки. Но я вам представлю несколько соображений, таких, что ваше превосходительство, обремененный важными делами, почувствует себя спокойно, что эти данные не имеют основания…
Ваше превосходительство, благоволите извинить меня за то, что я все изложил не столь хорошо, как это требовалось бы. Столько несчастий изнурили бы душу, более сильную, чем моя".
Речь шла о том, соглашались Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин на убийство только одного царя или всего семейства? Следователи вникают тут в каждую деталь: доказанное намерение к цареубийству им нужно было для вящего обвинения; интересуются средствами, чтобы не говорить о цели. Об отмене рабства и конституции спрашивают едва-едва, между делом, а "дело" - выяснить, что за планы загорались и гасли в Москве, Бобруйске, Лещине, Белой Церкви?
По этому поводу устраивались очные ставки Сергея Муравьева с Пестелем, и они впервые увиделись после тех, давних встреч на свободе…
Тогда же Сергею предъявляют показания, что за несколько дней до восстания в Житомире он просил поляков убить Константина. Показания брата Матвея.
Сергей мог бы отказаться, и тогда дали бы очную ставку с братом, и встретились бы. Возможно, если бы понимал, что никогда им не свидеться, пошел бы на этот прием. Однако прямодушие спорить с братом не позволяет.
Сергей: "Сие показание брата совершенно справедливо; я, с своей стороны, желал скрыть показанное им обстоятельство, ибо это единственный случай, в который я отступил от правила, мною руководствовавшего во все время нахождения моего в Обществе".
Был случай таким же путем увидеться со "вторым я" - Мишелем Бестужевым-Рюминым. Показания о тайных переговорах с поляками разошлись, предлагается очная ставка, но "подполковник Сергей Муравьев-Апостол, не допуская до очной ставки, подтвердил показание подпоручика Бестужева-Рюмина".
Муравьев не увидел в тот весенний день друга, закованного в цепи, но они еще встретятся.
Сергей Иванович еще просил прощения у отца… Много лет спустя Матвей запишет: "Лица, принадлежавшие к тайному обществу, привезенные в Петербург, являлись к Николаю, который сказал, что отец нас проклял. Зная своего отца, я не поверил этим словам".
Но Матвей Иванович смущен. Как видно, на Евангелии, которое вернулось от Сергея на волю, Иван Матвеевич не написал того прощения, которого просил у него сын. Царь, вероятно, знал о каких-то словах сенатора Муравьева-Апостола, не одобрявших замысла сыновей…
Не слышим - угадываем отца в эти дни: один сын погиб, двое - у края могилы, зять чуть не убит соратниками сыновей и сейчас участвует в разборе обвиняющих бумаг. Иван Матвеевич, кажется, всю жизнь учил добру, чести, но каков же капитан, если команда, им воспитанная, тонет? Учил быть честными - и они восприняли, да думал ли он, что так серьезно воспримут, думал ли, что сам, тысячу раз не желая, десять тысяч раз подтолкнул их, своим эпикурейским равнодушием, спокойствием, может быть, усилил их пылкое беспокойство?
Если отец не пришлет утешающих слов, Сергей найдет их сам, но страшится за Матвея и Бестужева, за брата особенно, из них троих слабейшего.
Из тюремных записей в Евангелии Матвея:
"Как я благодарен вам за ваше Евангелие! Сколько раз смотрел я на два восковых пятна на переплете, и что за воспоминания они во мне возбудили: круглый стол в Хомутце, наше вечернее чтение… все это кончено для меня - для меня нет больше счастья на земле. О, господи! сократи мой путь и призови меня скорее. Я больше ни к чему не буду годен. Я знал дружбу в здешней жизни и у меня нет более друга. Те, что дружески расположены ко мне, должны радоваться, когда узнают, что я оставил юдоль скорби. Что касается меня, то я мог бы все перенести, может быть, даже мужественно, но…"
Несчастный гость на жизненном пиру
Я жил лишь день - и умираю,
И над моей могилой, как умру,
Никто слезы не выронит, я знаю…
29-летний французский поэт Николай Жильбер написал эти строки за восемь дней до смертельного падения с лошади…
Как другой поэт, Матвей "был рожден для жизни мирной": "Близ Хорола в Хомутце, там, где разветвляется дорога из Хомутца в Бакумовку и Обуховку, есть источник; по малороссийскому обычаю здесь стоит деревянный крест. Возвращаясь, я отдыхал у креста, и там бы я хотел быть похороненным.
Я дорожу воспоминаниями о своих. Но по воле судьбы я родился и умер в Петербурге. Я убежден, что мои дорогие Екатерина, Анна, Елена не забудут меня. Для Дуняши, Лизаньки и для самого Васиньки я буду лишь воспоминанием детства…
Брат Ипполит скончался 3 января 1826 года в воскресенье в три часа пополудни, похоронен в деревне Трилесы Киевской губернии.
Брат Матюша (зачеркнуто: "февраля") марта (пропущено место для цифры) 1826 года в (оставлено место для названия города).
Брат…"
Последняя строчка как открытая могила: Матвей даже боится вписать имя Сергея.
Предпоследние строки обличают намерение к самоубийству.
Сергей догадывается обо всем этом, помнит прежние порывы брата - решить все разом и, кажется, находит способ ободрить его в горчайшие дни. Перед пасхой, которая должна была вызвать рой полтавских воспоминаний, силы Матвея почти кончились. В страстную пятницу он пишет Чернышеву, самому грубому и жестокому из следователей:
"Во имя бога, умершего за нас на кресте, во имя тех, кого вы любили и кого больше нет, я умоляю, ваше превосходительство, не откажите мне в единственной милости, которую я осмеливаюсь еще просить". Просит же он снисхождения за то, что должен ради покоя - своего и близких - "освободить землю от своего присутствия… Смерть сгладит все".
Попытка окончить жизнь голодовкой вызывает появление в камере протоиерея Петра Мысловского.
Спор об этом человеке не окончен. Большинство декабристов сохранило о нем лучшие воспоминания. Несомненно, он жалел их, многих ободрил и не мог бороться с возрастающим уважением и симпатией к некоторым из "грешных душ", переданных ему для очищения. Но были также арестанты, уверенные, что Мысловский выдает властям тайну исповеди.
Самое вероятное, что было и то и другое. Человек и чиновник не разлучались в протоиерее, он на службе и по службе доложит Чернышеву:
"Вследствие приказания, вчерась данного мне вашим превосходительством, я, не теряя ни минуты, тотчас отправился в назначенное место… я нашел несчастного гораздо в спокойнейшем духе, нежели мог ожидать. Он даже отрекся начисто от последних слов и намерений, в избытке скорби сорвавшихся с языка его… Я имею причину думать, что воображение его, сильно возбужденное горьким одиночеством, с коим он не был знаком во всю жизнь свою, а паче - упреки совести сухие и палящие, суть единственною причиною душевных его волнений и мятежа. Три часа, мною у него проведенные, достаточны, чтобы успеть заглянуть во внутренние изгибы сердца его. Сию минуту паки отправляюсь я к злополучному и - более, нежели когда-либо, вменяю себе в обязанность почасту посещать его. О дальнейших последствиях буду иметь честь аккуратно извещать ваше превосходительство…
С неумирающим чувством благоговения честь имею пребыть вашего превосходительства всепокорнейший слуга Казанского собора ключарь Петр Мысловский.
18 апреля Царь суббот, праздник праздников".
В тот единственный день, когда Сергею разрешают написать Матвею, он будет говорить в основном против самоубийства; безусловно, младший брат знал про опасное намерение Матвея, знал от Мысловского. Священник, не раз делавший маленькие подарки узникам и посетивший на пасхе всех подопечных, несомненно, шепнул Матвею пару слов от Сергея…
К Сергею же Мысловский заходит не столько ободрять, сколько ободряться.
В "Русской старине" в 1873 году появился следующий рассказ, записанный со слов Матвея:
"Отцу позволили посетить Сергея Ивановича в тюрьме. Старый дипломат сильно огорчился, увидев сына в забрызганном кровью мундире, с раздробленной головой.
"Я пришлю тебе, - сказал старик, - другое платье", "Не нужно, - ответил заключенный, - я умру с пятнами крови, пролитой за отечество"".
Рассказ несколько патетичен. Мундир на Сергее был действительно тот, в котором его взяли, и пятна крови могли сохраниться, но голова за полгода, конечно, зажила.
Эту же историю похоже, но правдивее, грубее, точнее передает Софья Капнист, как мы знаем, довольно точная мемуаристка. У себя в Обуховке они, печалясь, ждут вестей. Беспокоятся не только за Матвея, Сергея; здесь же их сестра Елена, уже вошедшая в семью Капнистов, неподалеку, в Бакумовке, другая сестра - Анна. Все вести из столицы приходят от сестры Екатерины Бибиковой:
"Екатерина Ивановна описывала и трогательную сцену последнего свидания и прощания отца с несчастными сыновьями; получив повеление выехать за границу, он тогда же испросил позволение увидеть сыновей своих и проститься с ними.
С ужасом ожидал он их прихода в присутственной зале; Матвей Иванович, первый явившись к нему, выбритый и прилично одетый, бросился со слезами обнимать его; не будучи в числе первых преступников и надеясь на милость царя, он старался утешить отца надеждою скорого свидания. Но когда явился любимец отца, несчастный Сергей Иванович, обросший бородою, в изношенном и изорванном платье, старику сделалось дурно, он, весь дрожащий, подошел к нему и, обнимая его, с отчаянием сказал: "В каком ужасном положении я тебя вижу! Зачем ты, как брат твой, не написал, чтобы прислать тебе все, что нужно?"
Он со свойственной ему твердостью духа отвечал, указывая на свое изношенное платье: "Mon père, cela me suffira!" то есть, что "для жизни моей этого достаточно будет!" Неизвестно, чем и как кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощания навеки отца в преклонных летах с сыновьями, которых он нежно любил и достоинствами коих так справедливо гордился!"
Не кровь - но изношенное платье; с меня будет - вместо умру с пятнами крови, пролитой за отечество.
Смысл сцены не меняется, но высокие слова прямо не высказаны.
Дело было 13 мая 1826 года.
С приближением лета "Санкт-Петербургские ведомости" печатают все более длинные списки отправляющихся в Европу, и если не знать никаких дополнительных фактов, то может показаться, будто на воды или для заграничных развлечений отъезжает, к примеру, генерал от артиллерии Аракчеев (объявление в газете от 11 мая); но мы-то понимаем, что в повое царствование его фортуна кончилась, и ему вообще лучше держаться подальше при окончании процесса над декабристами, мечтавшими свести с этим генералом счеты, и не портить своим унылым видом предстоящую коронацию (куда не пригласить его нельзя, а приглашать нежелательно)…
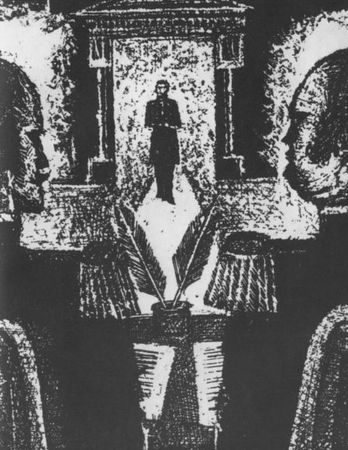
Через три дня в газете от 14 мая: "Отъезжает тайный советник, сенатор, действительный камергер и кавалер Муравьев-Апостол, с супругой Прасковьей Васильевной и малолетними детьми Евдокией, Елисаветой и Васильем; при них камердинер Карл Ион, саксонский подданный, и дворовые люди Иван Кононов и Евдокея Брызгова. Спрос на Исаакиевской площади в доме Кусовнинова".
И еще дважды, как полагается, объявление повторено, чтобы кредиторы и прочие заинтересованные лица могли успеть в предъявлении Ивану Матвеевичу своих претензий.
Последнее объявление в газете от 21 мая. После этого сенатор мог садиться в карету или на корабль. В эти же дни "Санкт-Петербургские ведомости" упоминают Ивана Матвеевича и в другом разделе: "В книжных лавках Глазунова и Смирдина продается "Путешествие Муравьева-Апостола по Тавриде в 1820 году", цена 12 рублей, цена с пересылкою - 13 рублей".
В эти дни в крепости уже почти не допрашивают - пишут обобщающие записки, готовят сводное донесение, размышляют о вынесении приговоров.
Отцу дано повеление уехать и в связи с этим разрешено свидание с сыновьями. Он слишком крупная персона, слишком замешаны его дети; ясно, что Сенат будет участвовать в решении дела - и как быть с сенатором Муравьевым-Апостолом? Мешает, опасен; сам по себе он - живой протест, даже если не протестует.
Увы, не знаем подробностей - как, кем было сделано предложение об отъезде (скорее всего, кто-то из высших персон передал царское пожелание); не ведаем, что говорил, думал Иван Матвеевич, так долго шедший рядом, близко - в согласии или спорах с детьми.
Иван Матвеевич исчезает.
"Дело Муравьева-Апостола Сергея, подполковника Черниговского полка. 328 листов, последние 32 - чистые".
71 документ. В начале - копия с формулярного списка о службе: чины, сражения, в которых участвовал, награды.
"В штрафах был ли, по суду, без суда, за что именно и когда?
- не бывал.
Холост или женат и имеет ли детей?
- холост.
К повышению достоин или зачем именно не аттестуется?
- За возмущение Черниговского нанка - недостоин."
Документ № 71, как положено, "Записка о силе вины".
На нескольких листах - 31 вина подполковника Муравьева-Апостола.
"Обстоятельств, принадлежащих к ослаблению вины, кроме скорого и добровольного признания при следствии без улик, во всем деле о Сергее Муравьеве не оказывается".
Петля
Темнеет… Куранты запели…
Все стихло в вечернем покое.
Дневные часы отлетели,
Спустилось молчанье ночное.
И время, которое длило
Блаженства земного мгновенья,
Крылом неподвижным накрыло
Печаль моего заточенья.
Тюремные стихи декабриста Барятинского. Перевод с фр. яз. М. В. Нечкиной
Утреннее заседание Верховного уголовного суда 30 июня. Подсудимых нет; только судьи: 18 членов Государственного совета, три члена Синода, 15 особо назначенных чиновников, 36 сенаторов.
На утреннем заседании обсуждены пятеро "вне разрядов".
Первым - Павел Пестель.
Вторым - Кондратий Рылеев.
Третий - Сергей Муравьев-Апостол.
Четвертый - Михаил Бестужев-Рюмин.
Пятый - Петр Каховский.
"К смертной казни. Четвертованием".
Все - "за", кроме одного - адмирала Мордвинова, много лет и трудов положившего на то, чтобы не казнили и не пытали.
К смертной казни четвертованием.
Всего за несколько заседаний приговорили: к четвертованию - пятерых, к отсечению головы - 31, к вечной каторге -19, к каторжным работам на 15 и меньше лет - 38, в - ссылку или в солдаты - 27 человек.
Затем - Указ Верховному уголовному суду:
"Рассмотрев доклад о государственных преступниках, от Верховного уголовного суда нам поднесенный, мы находим приговор, оным постановленный, существу дела и силе законов сообразный.
Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувствами милосердия, признали мы за благо определенные сим преступникам казни и наказания смягчить".
Затем - 12 пунктов, заменяющих отсечение головы - вечной каторгой, вечную каторгу - двадцатью и пятнадцатью годами, а в конце - пункт XIII:
"XIII. Наконец, участь преступников, здесь не поименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится.
Верховный уголовный суд в полном его присутствии имеет объявить осужденным им преступникам как приговор, в нем состоявшийся, так и пощады, от нас им даруемые…
На подлинном собственной его императорского величества рукою подписано тако:
Царское Село Николай".
10 июля 1826 года.
12 июля Верховный уголовный суд собирается в Сенате, помолились и отправляются через Неву в крепость в сопровождении двух жандармских эскадронов. В комендантском доме - столы, накрытые красным сукном и "расставленные покоем"; за столом - митрополит, Государственный совет, генералы, сенаторы в красных мундирах, министр юстиции в Андреевской ленте.
Все казематы открываются, и заключенных ведут через задний двор и заднее крыльцо в дом коменданта.
Владимир Штейнгель, как и многие другие декабристы, запомнит, что на большую часть разобщенных прежде узников свидание произвело самое сильное, радостное впечатление. Обнимались, целовались, как воскресшие, спрашивали друг друга: "Что это значит?" Знавшие объясняли, что будут объявлять приговор, сентенцию.
""Как, разве нас судили?" - "Уже судили!" - был ответ. Но первое впечатление так преобладало, что этим никто так сильно не поразился. Все видели, по крайней мере, конец мучительному заточению… Потом начали вводить одними дверьми в присутствие и, по прочтении сентенции и конфирмации обер-секретарем, выпускали в другие. Тут в ближайшей комнате стояли священник протоиерей Петр Мысловский, общий увещатель и духовник; с ним лекарь и два цирюльника с препаратами кровопускания. Их человеколюбивой помощи ни для кого не потребовалось: все были выше понесенного удара. Во время прочтения сентенции в членах Верховного суда не было заметно никакого сострадания, одно любопытство. Некоторые с искривлением лорнетовали и вообще смотрели как на зверей. Легко понять, какое чувство возбуждалось этим в осужденных. Один, именно подполковник Лунин, многих этих господ знавший близко, крутя усы, громко усмехнулся, когда прочли осуждение на 20 лет в каторжную работу. По объявлении сентенции всех развели уже по другим казематам".
Николай Лорер в эти минуты заметил "почтенную седую голову Н. С. Мордвинова. Он был грустен, и белый платок лежал у него на коленях".
Среди введенных с первой партией один вдруг слышит о себе: "Преступника первого разряда, осужденного к смертной казни, отставного подполковника Матвея Муравьева-Апостола, по уважению чистосердечного его раскаяния, по лишению чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двадцать лет и потом на поселение". (Через месяц каторга вообще была с него снята и заменена "вечным поселением".)
Он, конечно, искал во дворе брата, спрашивал: напрасно.
Рядом старинный друг по 1812 году и Семеновскому полку Иван Якушкин: "Матвей был мрачен; он предчувствовал, что ожидало его брата. Кроме Матвея, никто не был мрачен".
Пятерых уже отделили от приговоренных к жизни. Они в разных мирах, им не должно видеться. Да к тому же предусмотрены волнение и ярость, которые могут возникнуть у сотни с лишним осужденных при известии, что среди них - пять смертников.
Но именно в этот день, 12-го, были вызваны и пятеро.