Предварительный сговор товарищей на случаи ареста. Отказ от показаний как система защиты. Моральная поддержка слабых т.т. Изоляция сознавшихся. Вред излишнего бравирования. Права подследственного. Ответственность перед партией за поведение на следствии и суде. Руководство со стороны комитетов арестованными товарищами во время следствия и суда. Значение показаний на предварительном следствии и отказ от них на суде. Взятие на себя тяжести "преступления" и выгораживание товарищей. Показания взятых с поличным. Когда следует признать себя членом партии. Вызов свидетелей. Подпись протокола. Показания под пыткой. Отношение к показаниям других товарищей, якобы сознавшихся. Значение настоящей фамилии арестованного. Связь с волей. Борьба с подсаживанием шпионов. Суд как трибуна. Подмена осужденных. Организация жизни в тюрьме. Голодовка и способы ее проведения. Когда следует решаться на голодовку. Организация бунта. Когда следует решаться на побег. Организация побега. Как скрыться после побега".
Организовать диверсионные операции на территории иностранных государств, постепенно переходящие в партизанскую войну, можно было только при условии заблаговременной подготовки кадров. Такие кадры готовились по линии РУ РККА и ОГПУ (диверсанты на случай войны) и Коминтерна (члены военных организаций компартий). В 1932 году руководителем Центральной военно-политической школы ИККИ назначается поляк Кароль Сверчевский (Вальтер).
Для практической подготовки специальных кадров литер "А" (активные действия) в конце 1920-х – начале 1930-х гг. было подготовлено несколько уникальных учебных пособий по вооруженным восстаниям и партизанской войне. К наиболее интересным следует отнести книги Н. Чужака "Идея вооруженного восстания и большевистская работа в армии" (1929 г.); Ф. Анулова "Вооруженное восстание" (1930 г.); А.Ю. Нейберга "Вооруженное восстание" (1931 г.); М.А. Дробова "Малая война. Партизанство и диверсии" (1931 г.).
В соответствии с ленинской теорией партизанской войны Дробов рассматривал партизанские действия как одну из форм вооруженной борьбы классов, вырастающую в ходе классовой борьбы. Исходя из такого понимания партизанства, основными задачами последнего являлись:
– развитие в народных массах правильного понимания вооруженного восстания и разъяснение тех условий, при которых вооруженное восстание может возникнуть, протекать и успешно завершиться;
– организация сознательных рабочих и крестьян, группирующихся вокруг революционной партии, с целью активных выступлений и руководства массами для всеобщего вооруженного восстания;
– втягивание широких масс на путь революционных действий, облегчая для них условия организации и общеполитической подготовки и ускоряя процесс классовой дифференциации общества;
– истощение сил противника нанесением урона правительственному, полицейскому и военному аппаратам, разрушением и порчей железнодорожных линий, телеграфа и складов, арсеналов, транспортных средств и т.п., террором, экспроприациями оружия, боеприпасов, нападением на войска (гарнизоны) и их разложением и т.п.
В качестве главнейшей формы ведения "малой войны" Дробов называл диверсии, применение которых, по его мнению, наиболее эффективно в период проведения мобилизации. Он полагал, что общая задача для диверсий периода мобилизации может быть сформулирована как расстройство основных процессов мобилизации, удлинение мобилизационных сроков и нанесение материального ущерба. Для этого следовало:
– помешать эвакуации промышленных предприятий, складов с запасами сырья и материалов и т.п. из приграничных районов;
– затруднить вызов по мобилизации людей, лошадей и обозов, погрузку и выгрузку предметов снаряжения армии и эвакуируемых предприятий, чтобы застопорить движение по железным дорогам;
– замедлить движение эшелонов и смять плановые графики, чтобы сорвать сроки мобилизации;
– дезорганизовать транспортные средства порчей или уничтожением паровозов, вагонов, цистерн, пароходов, автомобилей, аэропланов и др.;
– уничтожать объекты железнодорожного и водного сообщения: мосты, трубы, шлюзы, водокачки, стрелочные переводы, переводные круги, электростанции и т.п.;
– прекратить, хотя бы на время, телеграфную, телефонную и радиосвязь;
– уничтожить базы, арсеналы, казармы, водопроводы, подачу света, хлебозаводы, предприятия военной промышленности и др.;
– применить террор против военных и правительственных деятелей;
– дезорганизовать работу штабов и учреждений, проводящих мобилизацию.
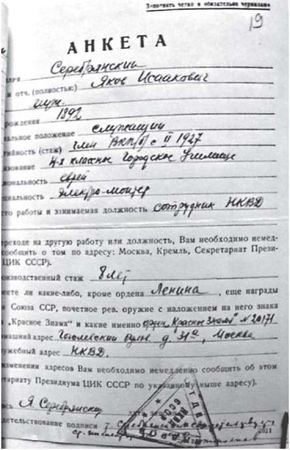
"В 1932 году, – писал И.Г. Старинов, – наша оборона на западных границах зиждилась на использовании формирований партизан. Войска противника, перейдя государственную границу и углубившись на нашу территорию на сотню километров, должны были напороться на укрепрайоны и увязнуть в позиционной войне. В это время на оккупированной территории партизаны начинают организованное сопротивление и перерезают противнику коммуникации. Через некоторое время, лишившись свежего пополнения, подвоза боеприпасов и продовольствия, войска неприятеля вынуждены будут отступать. Партизаны начинают отходить вместе с противником, все время оставаясь в его тылу и продолжая диверсии. Могут даже перейти государственную границу.
Это была очень хорошо продуманная система не только на случай оккупации части нашей территории. Базы закладывались и вне СССР. Очень важно было то, что готовились маневренные партизанские формирования, способные действовать как на своей, так и на чужой территории.
О размахе подготовки этих приготовлений можно судить по следующему факту – работали три партизанские школы. Две – в РУ и одна – в ОГПУ. Большая школа на Холодной горе в Харькове находилась в ведении ОГПУ. Школа в Куперске готовила людей, пришедших на нашу сторону из районов Западной Украины и Белоруссии. В каждой школе одновременно обучалось 10–12 человек, хорошо законспирированных. Они готовились около шести месяцев. Большая школа была в Киеве. Она готовила офицеров, которые уже имели опыт партизанской войны. Школа подчинялась непосредственно командующему киевским военным округом и находилась в местечке Грушки. Курсантов там даже обучали летать на самолетах!".
Как следует из воспоминаний ветеранов, начальниками спецшкол в Харькове, Куперске (?) и Киеве были М.К. Кочегаров, И.Я. Лисицын и М.П. Мельников. Кадры для партизанских отрядов готовились по следующей программе: политическая, общевойсковая, техническая и специальная подготовка. Также шло формирование командных и специальных кадров. В подготовке диверсантов основными предметами были политическая, физическая и стрелковая подготовка, боевая тактика, конспирация, минно-подрывное дело, разведка и контрразведка. В зависимости от предстоящих задач и состава группы подготовка занимала от трех до шести месяцев. В спецшколах одновременно готовилось до 30–35 человек.
К началу 1930-х гг. Штаб РККА разработал, а затем в ходе маневров опробовал теорию "глубокой операции", в которую органично вписывались разведывательно-диверсионные действия в тылу противника. Одним из авторов этой теории был заместитель начальника Штаба РККА В.К. Триандафиллов. Сторонник развития танковых и механизированных войск, "отец советского оперативного искусства" был автором фундаментальных трудов "Размах операций современных армий" (1926 г.) и "Характер операций современных армий" (1929 г.).
Практическое подтверждение высокой эффективности специальных подразделений было получено не только в ходе учений: после окончания Гражданской войны сотрудники ОГПУ и военные специалисты РККА имели не одну возможность проверить теоретические разработки на практике. Достаточно назвать операции по ликвидации басмачества (1922–1931 гг.), участие в боевых действиях в Китае (1924–1927 гг.), афганские события 1928–1929 гг.
Во время операции в Афганистане, направленной против Бачао Сакао, объявившего себя эмиром в начале 1929 года под именем Хабибуллы Гази и вынудившего отречься от престола просоветски настроенного короля Амануллу-хана, был приобретен первый опыт взаимодействия специальных подразделений с авиацией. В частности, был создан "воздушный мост" для материально-технического обеспечения диверсионных групп, организована штурмовая авиационная поддержка их деятельности. Как показала практика спецопераций второй половины XX века, авиационная поддержка боевых подразделений из состава сил специального назначения (материально-техническая, тактическая, огневая и спасательная) настолько важна, что многие из них имеют собственную боевую и транспортную авиацию.
На уровне военных округов подготовкой к партизанской войне занимались специально созданные 4-е отделы штабов военных округов. Они взаимодействовали с соответствующими структурами и отделами республиканских и территориальных органов ОГПУ. Например, в Белоруссии действовало Специальное бюро ОГПУ–НКВД, с 1930 по 1936 год осуществлявшее подготовку кадров к партизанской борьбе по своей линии. Уполномоченный этого Спецбюро А.К. Спрогис, служивший в тот период начальником спецшколы ГПУ, впоследствии вспоминал:
"В 1928 году меня направили на учебу в Высшую пограничную школу. Там проходили переподготовку командирские кадры. После окончания школы я стал совершенствовать свою квалификацию на специальных курсах, где мы, группа выпускников Высшей пограничной школы, изучали разведывательно-диверсионное дело, чтобы более эффективно бороться с нарушителями границы, распознавать все их приемы и уловки. Полученные знания мы продолжали совершенствовать на практике – в Белорусском пограничном округе, куда меня направили после курсов.
В этот период (начало 1930-х годов) по указанию ЦК проводились мероприятия по укреплению обороноспособности западных районов страны на случай нападения империалистического агрессора.
Мы осваивали методы партизанской борьбы, работали над созданием партизанской техники, обучали будущих партизан минно-подрывному делу. Заранее подбирались кадры организаторов военных действий в тылу врага (среди них были тогда такие товарищи, как Ваупшасов, Орловский и другие, ставшие в годы Отечественной войны героями партизанского движения). От партизан требовалась всесторонняя подготовленность, и я в числе других освоил парашютное дело, получил значок инструктора парашютизма. Все, чему мы научились в мирное время, оказало потом неоценимую помощь нам в борьбе с немецкими оккупантами…
В начале 1930 года небольшая группа слушателей Высшей пограничной школы (ВПШ) ОГПУ (в том числе и я) была вызвана в особый отдел центра, где имела соответствующий разговор с руководящими лицами. В частности, я хорошо помню товарища Гендина. Его я знал и раньше.
Из нашей группы было отобрано 30 человек, в том числе и я. После прохождения месячных специальных курсов нас направили в три пограничных округа – Ленинградский, Украинский и Белорусский – для организации и подготовки диверсионно-партизанской работы.
Установка была такова, что к весне ожидается война. Война не началась, но все группы по округам, соответствующие отделения в составе округов продолжали начатую подготовительную работу…".
В соответствии с секретным планом Штаба РККА, утвержденным наркомом по военным и морским делам К.Е. Ворошиловым, вдоль западных границ СССР были оборудованы десятки тайников с оружием (в том числе автоматами), боеприпасами, взрывчаткой. В приграничных округах на коммуникациях проводилась работа по подготовке к взрывам мостов, водокачек и других стратегически важных объектов на всю глубину полосы обеспечения укрепрайонов.
В 1932 году началось формирование специальных подразделений "ТОС" (техника особой секретности), на вооружении которых состояли мины, оснащенные радиоуправляемыми взрывателями "БЕМИ", а впоследствии "Ф-10". Они были созданы в Особом техническом бюро по военным изобретениям специального назначения (Остехбюро) под руководством В.И. Бекаури. И.Г. Старинов вспоминал, что именно Бекаури впервые познакомил его с конструкцией радиоуправляемых мин.
Наряду с подготовкой кадров проходили и полномасштабные учения. Осенью 1932 года на общевойсковых учениях под Ленинградом работали около 500 выпускников партизанских спецшкол из Белорусского, Ленинградского и Украинского военных округов. Партизаны (диверсанты) были в гражданской одежде, вооружены японскими карабинами, учебными гранатами и минами. В ходе учений они проникали через условную линию фронта пешим порядком и по воздуху. Партизанские группы провели несколько успешных нападений из засад. Налеты на штабы "противника" оказались неудачными – охрана бдительности не теряла. Но на коммуникациях "противника" диверсионные группы действовали эффективно.