Вообще, в последнюю четверть века русское офицерство считало себя заброшенным и забытым.
Было бы рискованным делать определенные выводы из приводимых ниже слов, но явление это показательно: у меня создалось впечатление, что в последние годы перед мировой войной в военных собраниях армейских частей падал интерес к "Новому Времени" и повышался - в отношении беспартийного радикального "Русского Слова", минуя… "Речь", которая, как и вообще кадетская партия, в военной среде расположением не пользовалась.
* * *
Полоса безвременья вызвала в армейской среде государственно-опасное явление.
Недавнее прошлое японской войны держало многих в каком-то гипнозе, лишая веры в будущее. В нем, в этом прошлом, больно отраженные образы неудач, крушения надежд и верований заслоняли собою и те эпизоды яркого проявления доблести и искусства, которые вкраплены были на темном фоне кампании. Отношение общества и печати поколебало еще более во многих офицерах веру в свое призвание и в моральный престиж своего служения. И начался "исход", приведший в 1907 г. к некомплекту в офицерском составе армии до 20 %.
В "Особой подготовительной комиссии при Совете государственной обороны", работавшей в 1907 г. и состоявшей в большинстве из генералов старой школы{Генералы Иванов (Н. И.), Эверт, Газенкампф, Мышлаевский и др.}, обсуждались меры улучшения боевой подготовки армии и удовлетворения насущных ее потребностей, в том числе и офицерский вопрос. Комиссия установила "почти повальное бегство офицеров из строя", причем уходили, главным образом, наиболее развитые, наиболее способные и энергичные. Это печальное явление, отмеченное в свое время и военной печатью, прошло мимо внимания общественности, не вызвало в ней тревоги… Члены комиссии видели главную, некоторые исключительную причину этого явления в вопиющей материальной необеспеченности офицерства, отчасти в беспросветном служебном движении в главной массе офицеров армейской пехоты, где роту получали в среднем на 15−16-м году службы… Подполковник кн. Волконский, случайно допущенный на это собрание умудренных опытом и годами военных сановников, изложил и другие причины перелома в офицерской среде:
"Что важно и что не важно, определяют теперь прежде всего соображения политические… Действительно неотложны теперь лишь меры, могущие оградить армию от революционирования… Возможен ли бунт в армии? Пропаганда не прекратилась, а стала умнее. Здесь говорили - "офицеры преданы царю"… Морские офицеры были не менее преданны. Говорят: "морские бунты совпали с разгаром революции"… Но революция может вновь разгореться; аграрный вопрос может поставить армию перед таким искушением, которого не было во флоте. Офицерство волнуется… Кроме волнений, оставляющих след в официальных документах, есть течения другого рода: офицеры, преданные присяге, смущены происходящим в армии; иные подозревают верхи армии в тайном желании ее дезорганизовать. Такое недоверие к власти - тоже материал для революционного брожения, но уже справа… Вообще, непрерывное напряжение, травля газет, ответственность за каждую похищенную революционерами винтовку, недохват офицеров и бедность - истрепали нервы, т. е. создали ту почву, на которой вспыхивает революционное брожение, нередко даже наперекор убеждениям".
Но далеко не все сложили оружие. Наряду с "бегством" одних, яркая картина очевидной и угрожающей нашей отсталости для большинства послужили моральным толчком к пробуждению, в особенности среди молодежи. Никогда еще, вероятно, военная мысль не работала так интенсивно, как в годы, последовавшие после японской войны. О необходимости реорганизации армии говорили, писали, кричали. Усилилась потребность в самообразовании, и, сообразно с этим, значительно возрос интерес к военной литературе, вызвав появление целого ряда новых органов. Мне представляется, что, не будь урока японской кампании и последовавшего за ним подъема и лихорадочной работы, армия наша не выдержала бы и нескольких месяцев испытания мировой войны…
Тем временем военное ведомство частью приступило, частью наметило ряд реформ: омоложение и улучшение командного состава, организация кадров второочередных дивизий, усиление артиллерии и материального снабжения, новая дислокация, соответствовавшая планам сосредоточения на Западном фронте, и т. д. Но работа шла страшно медленным темпом. Новый устав о воинской повинности, например, разрабатывался в течение нескольких лет и вышел в 1912 г., далеко не оправдав ожиданий… Новое положение о полевом управлении войск было утверждено только с объявлением войны в 1914 г… Комиссии генералов Зарубаева (офицерский вопрос и прохождение службы), Бильдерлинга (одежда и снаряжение), Водара (реорганизация войскового хозяйства) ограничивались словопрениями и не давали ощутимых результатов. Некоторые мероприятия секретного характера и не могли стать достоянием армейских кругов. И хотя работа наверху все же шла несомненно, получалось действительно впечатление застоя, будившего тревогу и вызывавшего нарекания. Поскольку тревога была обоснована, можно судить по тому, что в 1909 г. на совещании в Царском Селе, созванном Государем в связи с аннексией австрийцами Боснии и Герцеговины, военный министр Редигер имел мужество заявить, что армия наша совершенно не готова… То же говорит другое лицо, стоявшее весьма близко к центральному управлению, ген. Юрий Данилов, свидетельствующий, что в результате расстройства, причиненного японской войной и последовавшей ломкой, время с 1905 по 1910 год - "а может быть, и более продолжительное" - было "периодом нашей полной военной беспомощности".
В 1909 г. военный министр Сухомлинов сообщал старшим войсковым начальникам о существовании тайных офицерских организаций, поставивших себе якобы целью ускорить насильственными мерами "медленный и бессистемный ход реорганизации армии". Требовал принятия мер против этого явления. Можно сказать с уверенностью, что опасения министра были преувеличены: такие организации, чуждые тогдашнему духу и всей структуре армии, если и были, то не могли приобрести серьезного значения. Ближайшие годы показали, что даже в разгар общественного брожения и недовольства, в конце 1916 и начале 1917 г., "революция справа" - подготовка дворцового переворота, связываемого с именем генерала Крымова, захватила лишь очень небольшой круг офицерства…
Так же обстояло дело с левыми организациями. Собственно, после декабристов, поскольку мне известно, только в начале 80-х годов офицерство участвовало в более или менее значительном числе в заговоре и подготовке восстания (дело Рыкачева); позднее - прикосновенность их ограничивалась явлениями единичными. После революции принадлежность к нелегальным ранее партиям стояла превыше всякого иного стажа и открывала дорогу к карьере, почестям, наградам{Несколько лиц, разжалованных и сосланных в царское время в Сибирь, было произведено Керенским "за выслугу лет" из подпоручиков прямо в подполковники.}. Тайное стало явным. Оказалось при этом, что социал-демократическое течение не имело почти вовсе последователей среди кадрового офицерства, а социалисты-революционеры были представлены в нем лицами весьма ограниченной численности и небольшого удельного веса в партии.
Корпус русских офицеров в целом, в особенности после 1905 г., относясь с большим вниманием, анализом, критикой, не раз с осуждением к некоторым явлениям военной и общегосударственной жизни, сохранил характер охранительно-государственной силы. В этом - его заслуга, в этом же - предопределение его трагической судьбы.
* * *
С 1908 г. интересы армии нашли весьма внимательное отношение со стороны Государственной Думы, вернее ее национального сектора. Согласно русским основным законам, вся решительно жизнедеятельность армии и флота направлялась верховной властью, а Думе предоставлялось лишь рассмотрение таких законопроектов, которые требовали новых денежных ассигнований{В германской конституции § 4 устанавливал: "надзору со стороны парламента подлежат армия и флот". Статья 13-я австрийской конституции: "на обязанности парламента лежит установление системы государственной обороны"…}. Военное министерство ревниво оберегало от любознательности Думы сущность вносимых законодательных предположений, и на этой почве началась борьба, в результате которой Дума сумела добиться некоторого влияния на военные дела. В конце 1907 г. Дума приняла внесенное группой депутатов, во главе с Родзянкой, предложение образовать "Комиссию по государственной обороне", в составе 33 лиц. В своем объяснительном докладе Родзянко указывал, что проект не имеет в виду "каким бы то ни было образом касаться державных прав Верховного вождя", но что представителям народа необходимо иметь возможность обсудить всесторонне, "осведомившись через специалистов", такие, например, важные дела, как многомиллионные ассигнования на постройку флота и реорганизацию армии…
"Осведомление через специалистов" шло двумя путями: при посредстве официальных докладчиков военного ведомства и близким общением некоторых членов комиссии, в частности Гучкова, с кружком военных, по преимуществу офицеров Генерального штаба. Кружок этот не имел никаких политических целей, хотя участники его и носили в среде посвященных шутливую кличку "младотурок". Лояльность членов кружка подтверждается хотя бы фактом вхождения в него Вас. И. Гурко - генерала старых военных традиций и консервативного образа мыслей. Они считали лишь необходимым подтолкнуть медленный ход реформ.
Тем не менее Сухомлинов относился к этой группе офицеров с большой подозрительностью, придавая ей преувеличенное значение. В течение 1909–1910 гг., с ведома Государя, он принял меры к распылению этого "соправительства", как он выражался, предоставив известным ему членам группы новые назначения вне Петербурга…
Думам 3−4-го созывов приходилось заниматься вопросами государственной обороны огромной важности при проведении так называемой "большой программы". И отношение к ним было всегда внимательное, а необходимые кредиты редко встречали препятствие; наоборот, сама Дума проявляла не раз инициативу в этом отношении. Сам Сухомлинов, обвиняя Думу, и в особенности депутатов Гучкова, Милюкова и Шингарева в "интригах", с целью устранения его лично с поста, признает, что "Государственная Дума отнеслась в полной мере сочувственно к дальнейшему усовершенствованию наших сил" и что "все (его) требования, поступавшие в Думу, разрешались без всякой задержки". И когда незадолго перед мировой войной (1912) с трибуны Государственной Думы особенно громко и тревожно раздавались предостережения о неготовности нашей армии, военное министерство выступило далее с официальным успокоительным разъяснением, что "нападки и крики отчаяния Государственной Думы лишены основания".
Удовлетворяя широко бюджетные потребности армии, Дума проявляла внимательное отношение и к офицерству, к его материальной необеспеченности и его моральным запросам. Нападки на армию или такие эпизоды, как оскорбление армии с трибуны Гос. Думы депутатами Якобсоном или Зурабовым, были все же только эпизодами. И в души офицерства, не избалованного общественным вниманием, западали больше другие слова, другие речи. Когда Гучков говорил в Думе (1909): "Разве берегут, разве культивируют то чувство чести и личного достоинства, то честолюбие и самолюбие, на которых только и может строиться характер истинно военный"… - то слова эти, затрагивавшие интимное, больное, находили благодарный отклик… Случалось нередко, что и те мероприятия, которые проводились по инициативе военного ведомства, офицерство, мало разбиравшееся в порядке прохождения законов, относило в актив Гос. Думы.
Таким образом, мало-помалу, невзирая на ненависть к Думе консервативного офицерства, по преимуществу старшего, которое видело в ней источник всех зол, а в повешении членов ее - спасение России, предубеждение к Думе в широких армейских кругах понемногу проходило. В ней многие видели одно из средств вывести армию на путь широких реформ и исцелить армейские язвы. Некоторые смотрели на задачи Думы шире, полагая, что только общий подъем народной жизни - культурный и экономический - может поднять надлежаще и военную мощь страны.
И потому в первые дни разразившейся над страною грозы не только одна, всеобщая растерянность или стадное чувство, но и указанные выше мотивы привели офицерство в Таврический дворец.
Обстоятельство - весьма показательное и важное, которое, к несчастью, не было надлежаще оценено и использовано властью, вышедшей из революции.
Vanves, Франция
Том второй
Эта книга - второй том бытовых очерков из цикла "Старая армия".
Я не претендую на всестороннее исследование ее прошлой жизни. Мои очерки - только отражение виденного, слышанного и пережитого на протяжении 30 лет фактической службы в пяти военных округах, в трех кампаниях.
Пишу о светлом и о темном. Русская армия имеет довольно заслуг, чтобы не бояться обнаружения ее недочетов. Тем более - памятуя суворовское поучение: "Нужнее неприятное известие для преодоления, нежели приятное для утешения".
В юнкерском училище
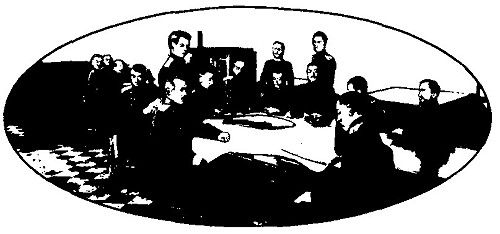
I
В конце <18>80-х годов для комплектования армии офицерами существовали училища двух типов.
Военные училища, имевшие однородный состав по воспитанию и образованию, так как комплектовались они преимущественно юношами, окончившими кадетские корпуса. Они выпускали своих питомцев офицерами во все роды оружия, с одним или двумя годами старшинства в подпоручичьем (корнетском) чине.
Юнкерские училища предназначались для молодых людей "со стороны" и открывали свои стены для вольноопределяющихся всех категорий и всех сословий. Огромное большинство поступавших не имело законченного среднего образования. Это обстоятельство придало училищам характер второсортности, питомцев их ограничивало в правах выпуска и в обществе создало им огульную репутацию "неудачников". Между тем в этой категории встречалось немало людей, избравших военную карьеру по призванию, способных и достойных. Множество юношей приводила в юнкерское училище классическая система образования, толстовско-деляновский режим и греко-латынь. В период с 1872 по 1890 год, например, из русских гимназий было исключено за малоуспешность от 63 до 79 % первоначально поступивших учеников… Немалое число их шло в полки вольноопределяющимися, потом в юнкерские училища. Так как 6-й класс гимназии давал права I разряда по отбыванию воинской повинности, то на переходном экзамене из 6-го класса в 7-й обычно ставили удовлетворительный балл малоуспевавшим по древним языкам гимназистам - "под честным словом", что они оставят гимназию и поступят на военную службу…
Таким образом, классическая система, которая по мысли ее творца, министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, должна была предохранять юношество от нигилизма и материалистических учений и, с другой стороны - преграждать или, по крайней мере, затруднять доступ в среднюю школу детей из низших общественных классов, приводила косвенно к результатам, министерством не предусмотренным: в течение нескольких десятков лет эта система питала юнкерские школы и офицерские корпуса элементом вовсе не плохим.
Из числа действительных неудачников в юнкерские училища поступали в довольно большом числе воспитанники четырехклассных военных школ - Ярославской и Вольской, которые имели в прежнее время характер исправительных заведений для кадет малоуспевавших (первая) и дурного поведения (вторая). Впоследствии эти школы были преобразованы в нормальные кадетские корпуса.
Наконец, в юнкерские училища поступало небольшое число сверхсрочных солдат - фельдфебелей и унтер-офицеров пехоты и артиллерии. Эти люди, обычно с огромным трудом добивавшиеся свидетельства 4-х классов, степенные, пожилые, представляли некоторый контраст с молодым населением училища и отличались вполне установившимся характером и большим трудолюбием.
До поступления в училище лица без законченного среднего образования должны были прослужить в войсках в течение года. Курс училища был двухлетний; программа - меньшая по объему, чем в военных.
Юнкерские училища выпускали своих питомцев в пехоту - подпрапорщиками и в кавалерию - эстандарт-юнкерами. Эти чины до производства в офицеры находились в довольно неопределенном бытовом и служебном положении от 3 месяцев до нескольких лет - в зависимости от успешности окончания училища, удостоения начальства и наличия вакансий. В одних полках их принимали в офицерскую среду всецело, в других - с известными ограничениями.
В <18>88 г. было создано училище третьего типа, с очень неуклюжим названием: "Московское юнкерское училище с военно-училищным курсом". Программа наук в нем была та же, что и в военных училищах, такие же права, и принимались туда только вольноопределяющиеся с законченным высшим или средним образованием; для первых был установлен одногодичный курс, для вторых - двухгодичный.