Прекрасная песня иволги, услышанная Пушкиным в Михайловском, показалась ему достойным соперником его гармонии. Наряду с соловьем это самая голосистая, мелодичная птица. Ее можно назвать концертмейстером здешнего птичьего хора. Голос ее удивительно чист и нежен, он слышится в садах и рощах во всяк час летнего дня, когда солнце освещает и согревает всё живое, всё сущее на земле. Эта трехколенная песня столь душевно пронзительна, что мне всегда кажется, что ее слышит и глухой.
Птичий хор - одно из величайших наслаждений, какие доставляет природа человеку весной и летом. Скворец зорянка, дрозд, горихвостка - запевалы этого хора. За ними начинают заливаться зяблики, славки, синицы, мухоловки, пеночки-теньковки. К восходу солнца весь птичий хор в сборе. Особенно умилительна пеночка. Она обычно поет, неустанно порхая и прыгая с сука на сук, с дерева на дерево. Она первая прилетает сюда с юга, первая пробуждает дремлющий лес. Она мастер тонкой трели и очень высоких нот. А есть птичка, которая выпевает свои громкие переливчатые трели в Михайловском и зимой, когда сидит в снегу, почти зарываясь в нем, или на заснеженной ветви ели. Это птичка-малютка, у нее хвостик, как вымпел, всегда поднят к небу. Эта чудо-птичка - крапивник.
Есть птицы, которые поют в Михайловском и по ночам. Кроме соловья, это камышовка, козодой, сова…
"РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ"
Мир птичьего Михайловского был безграничен. Он был великим утешителем и целителем поэта. Птицы были всюду. Не только в рощах и лугах, но и в самой усадьбе. Соблюдая "обычай доброй старины", в его доме, в светлице няни, водились чижи и канарейки, а около дома - голуби, скворцы и ласточки, за которыми ухаживала Арина Родионовна.
Забыв и рощу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.
В этом незаконченном стихотворении, оставшемся в бумагах Пушкина без даты, ощущается реальная ситуация, в которой находился поэт в своем Михайловском доме в годы ссылки.
Долгими зимними вечерами няня часто напевала поэту здешние народные песни. Особенно полюбилась Пушкину старинная "птичья" песня о том, как "Синица за морем жила".
За морем синичка жила,
Не пышно жила, пиво варивала,
Солоду купила, хмелю взаймы взяла,
Черный дрозд пивоваром был.
Сизый орел винокуром слыл.
Соловушка-вдовушка незваная пришла.
Синичка по сеничкам похаживала.
Соловушке головушку поглаживала.
Что же ты, соловушко, не женишься?
Рад бы жениться, да некого взять.
Взял бы ворону, да тетка моя,
Взял бы сороку - щепетливая она.
Взял бы синичку - сестричка моя.
За морем живет перепелочка,
Она мне не мать и не тетушка,
Ее-то люблю, за себя замуж возьму…
Вот теперь все идут в Михайловское на поклон к Пушкину и его няне. Идут простые люди и непростые - художники, поэты, артисты… Иные приходят рано утречком, когда здесь никого еще нет. Им хочется побыть с Пушкиным наедине.
"Я, как завороженный, ходил здесь и пел, пел всё пушкинское, что знаю и над чем работаю", - рассказывает в своих воспоминаниях о поездке в Михайловское наш замечательный певец Борис Романович Гмыря. "Я пел белкам и скворцам… Мне так хотелось спеть нянину "Синицу" в ее светлице, что я не утерпел и попросил разрешения у хранителя музея… Я пел с таким задором, с каким пел редко, ибо пел я воображаемой старушке, ее лежаночке, пел Пушкину. В няниной "Синичке" мне мерещился сам Пушкин в образе синицы, принимающей гостей со всех волостей…"
В доме Пушкина, за что ни возьмись, всюду птицы: тканые, вышитые, нарисованные; на полотенцах, скатертях, салфетках, простынях. Ведь птицы и знаки птиц - всё это знаки добра, здоровья, это символ радости, жизни, плодородия земли… Сел за стол писать - брал в руки перо гусиное, или лебединое, или аистиное. Велел самовар подать, чтобы чаю испить, а у самовара кран в виде птичьего клюва. Подошел к горшку-водолею руки помыть, у того носик от "золотого петушка". Обедать сел - на столе тарелки и блюда фаянсовые, расписанные птицами… А весною к утреннему чаю на стол подавались печеные крендельки - "жаворонки".
Весною птиц выпускали из клеток на волю… Даже там, на юге, "на чужбине", Пушкин "свято наблюдал" этот "родной обычай старины", обычай древний и трогательный. 25 марта с началом весны, в благовещенье, люди выпускали на волю птиц, до того долгую зиму сидевших у печей.
В пушкинское время было немало стихов на эту тему. В них обычно писалось о радости освобожденной птички, о пробуждающейся весне, о празднике природы. Такие стихи можно было встретить почти в каждом доме, в семейных альбомах друзей и знакомых Пушкина. Листы таких альбомов украшались изображениями покинутых птичками "золотых клеток", рисунками, изображающими пичуг, порхающих среди цветов…
Одно из таких стихотворений принадлежит современнику Пушкина, малоизвестному поэту Федору Туманскому. Оно было написано в 1823 году. Пожалуй, это единственное произведение Туманского, которое осталось в памяти народа. Напечатанное в 1827 году, оно пользовалось огромной популярностью.
Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.
Однажды в Тригорском одна из "дев гор" - Анна Николаевна Вульф стала просить Пушкина написать ей в альбом какое-нибудь стихотворение. Пушкин долго отнекивался, потом согласился и написал… "Птичку" Ф. А. Туманского.
В 1823 году написал свое стихотворение "К птичке, выпущенной на волю" А. Дельвиг. Пушкин знал стихи Туманского и Дельвига, и в том же, 1823 году, уже на юге написал свою "Птичку" с тем же количеством строк, что в стихотворениях Туманского и Дельвига.
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Посылая эти стихи Н. И. Гнедичу, поэт писал ему: "Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в светлое воскресенье выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это".
Современники Пушкина, разделявшие с ним тяжесть общей неволи, искали в этих стихах аллегорический смысл. Одни понимали, что суть этой песенки не столько в птичке, сколько в самом авторе, его намеке, не дарует ли наконец и ему царь свободу. Иные истолковали "Птичку" как призыв поэта к освобождению всех невинно осужденных людей. Но были и такие читатели, у которых "Птичка" вызывала не умиление и доброе размышление, а раздражение. Они чувствовали в ней старый "деревенский" мотив крамольного Пушкина - призыв к освобождению крепостных крестьян. Так, один псковский крепостник-помещик завел в своей библиотеке специальную тетрадь для записи подозрительных, по его мнению, пушкинских стихов; на обложке ее написал: "Собрание ненапечатанных стихотворений А. Пушкина и других. С примечаниями хозяина книги, начатой в 1824 году 1 августа". Первое стихотворение, которое он записал в свою книгу, была "Птичка". Под текстом стихотворения он сделал ехидное примечание: "А выпускает ли на волю сочинитель своих лошадей?.."
Свято соблюдал Пушкин этот прекрасный народный обычай в Михайловском, как, впрочем, соблюдал и многие другие народные обычаи и обряды. Мне кажется, что будь на то у поэта власть, он скупил бы всех птиц, посаженных людьми в клетки, и выпустил их на свободу.
ЖИВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Из окна своего кабинета, вероятно, не раз Пушкин наблюдал за веселой белобокой птицей сорокой, разорительницей чужих гнезд - мастерицей жить за чужой счет. Эту птицу можно встретить в Михайловском повсюду: и возле ворот на усадьбу, и у крыльца дома-музея, и около ларька, где торгуют сувенирами. Она падка на всё, что плохо лежит, - карандаш, монета ила носовой платок… Зазевается какая-нибудь старушка, положит свою сумочку на садовый диван - сорока тут как тут и даже пытается лапками открыть замочек…
"Скачет сорока возле дома - гостей пророчит", "На своем хвосте сорока дому вести приносит", - говорит народная примета. Пушкин хорошо знал эту примету. В незаконченном стихотворении "Стрекотунья белобока", датируемом 1829 годом, он говорит:
Стрекотунья белобока,
Под калиткою моей
Скачет пестрая сорока
И пророчит мне гостей…
Он любил хаживать к "пруду под ивами". Долго смотрел на его спокойные воды, разглядывая то карасей, весело справлявших свой свадебный обряд, то ворону, охотившуюся за малыми утенятами, то уток молодух, плывущих за крошками хлеба, которые кидал им дворовый мальчик. Утки резвились и громко хохотали: "Кхря-кхря-кхря!" Он в ответ им ловко подражал, и они. вместе хором крякали и потешались. Смотря на их игры, он чувствовал себя веселым, как птица. Так весело ему не бывало никогда.
Потом, в тридцатых годах, когда мечты о свободной, независимой жизни в деревенском поместье - "обители трудов и чистых нег" - получили у Пушкина особенно устойчивую форму, он с грустью вспоминал в своих "Отрывках из путешествия Онегина" об этом чудном уголке природы и его птичьем раздолье…
Много лет я держал дома чижей, синиц, голубей и канареек. Канареек растил, чтобы потом поместить их в светелку няни в качестве музейного экспоната. Моя канарейка Таня научилась петь под аккомпанемент фортепьяно и гитары. В ее песне ясно слышалось человеческое - "люли, люли, люли…" Она любила мое доброе слово, постоянно обращенное к ней и утром, и днем и вечером: "Пичужка моя!.."
В экспозиции музея Таня пробыла недолго, меньше недели: ее буквально замучили своими ласками посетители… Теперь в светелке осталась от Тани пустая клетка, сделанная мною по старинному образцу…
"ЧУВСТВА ДОБРЫЕ"

Когда в 1962 году замечательный русский художник Сергей Тимофеевич Коненков приезжал в Михайловское, он как-то по-особому слушал здешних птиц. Он долго смотрел на игру голубя турмана в небе, на купанье белых голубей в пруду, а прослушав пенье канарейки Тани, растрогался чуть не до слез и сказал: "Знаете, про что здешние птицы пели Пушкину? Они пели ему про "чувства добрые", про рай, дорогу в который он искал всю свою жизнь. Михайловское и было для него раем. Незадолго до смерти он это хорошо понял, и стремился только сюда. Лучше Михайловского он на всем свете места не нашел. Теперь его тень постоянно на страже у входа в этот рай… Вот что такое, Михайловское!.."
Птицы хорошо отличают доброго человека от злого.
Пушкин был добрый и доверчивый человек и не мог не любить птиц, и они не могли не быть доверчивы к нему.
Вероятно, и при Пушкине в Михайловском огороде стояло чучело, чтобы отпугивать воробьев. Стоит оно и теперь, в виде этакого молодого столичного прохиндея: шест, на шесте куртка и штаны в модных заплатах, на голове грива, на гриве шляпа, а в кармане куртки поселилась… синица, и сейчас торчат из этого кармана головы орущих пичуг… Экое диво!
На усадьбе Михайловского вечером горят фонари. А в фонаре сидит на своем гнезде мухоловка. Хоть ей и жарко, но вольготно, и тепло птенцам, и не страшно, что ворона схватит и разорит ее семейство.
В Михайловском всё испокон веков. И в этом неповторимость сегодняшнего заповедного места.
Куда бы вы ни пошли, всюду птица - добрая, доверчивая к тем людям, для которых Пушкин и всё пушкинское священно и неприкосновенно.
В центре усадьбы, там, где летом бывает почти полмиллиона паломников, растут густые кусты шиповника, жасмина, сирени, дикого винограда. За ними хорошо ухаживают, и они всегда в своей полной красе. И не удивительно, что почти в каждом из них летом живут и гнездятся птицы.
Однажды я сделал большую глупость. Обнаружив гнездо дрозда в кусте жасмина, растущем неподалеку от домика няни, я решил показать его публике во время экскурсии. Я подвел экскурсию к жасмину и, как фокусник, раздвигая ветви его, сказал: "А теперь, дорогие друзья, посмотрите, что тут делается!" Публика была в восторге. А к птице пришла беда. Ее гнездо стали показывать другие экскурсоводы. Иные стали пальцами трогать гнездышко… Одним словом, началась суета, и дрозд покинул свое гнездо.
А разве неудивительно, что дикие утки, много лет кряду выводящие утят в зарослях ганнибаловского Черного пруда, после того как птенцы вылупятся, уводят их по Еловой аллее к месту своего постоянного пребывания - реку Сороть или озеро Кучане. Обычно это случается в день Пушкинского праздника поэзии, когда по аллее, как по Невскому проспекту, бежит несметная толпа людей. Все спешат, ничего не замечают, гонятся за пролетающим экскурсоводом… И среди этой толпы - семья молодых утят, важно шествующих к реке. Иные люди и замечают это чудо, но им кажется, что так здесь всегда, что, мол, это один из заповедных, постоянно действующих пушкинских экспонатов!
На околице Михайловского всегда немноголюдно. Она так велика, что и тысяча человек на ней малоприметна. Такое редко где увидишь, разве что во сне. Здесь всегда спокойно и ласково. В особенности в час, когда день подходит к концу и наступает вечер, когда засыпают воды, травы, деревья. Лишь на лугах таинственно перекликаются дергачи. В небе спешат какие-то большие снежно-белые, поразительной красоты птицы, - это аисты. Дом аиста на высокой, очень старой, еще ганнибаловской ели - единственной на околице. Аистов радостно встречают молодые аистята - они безмолвно размахивают крыльями, кружатся хороводом по гнезду…
Неподалеку чуть слышится какая-то другая возня и воркотня. Это цапли готовят своих малышей на сон грядущий… Михайловские серые цапли! Их много - около полусотни гнезд. Живут большой колонией в больших гнездах, на самых больших соснах. Эта птица вообще любит лишь те места, где есть озера, реки, болота, где водится много рыбы, лягушек, змей, до которых она большой охотник. В Михайловском всего этого вдоволь, и цапли здесь издревле. О них Святогорский монах еще в XVIII веке писал в духовную консисторию, что "птица, именуемая "зуй" любит места сии богом данные, понеже в древние времена здесь был монастырь Михаила архангела".
И деревенское название Михайловского - Зуево, так и Пушкин его называл.
От зари до зари цапли в полете и охоте. Отдельные пары их летают из Михайловского почти до Пскова, а то и дальше - до побережья Чудского озера. Это заметили псковские краеведы еще много лет тому назад. Днем цапли бродят по лугам Михайловского и Тригорского. Часами стоят у воды и высматривают в ней рыбу. Количество семей их из года в год меняется. Этому много причин. Одна из главных - гибель при перелетах с юга на север. В этом году гнезд было около пятидесяти, а пять лет тому назад было тридцать пять.
В 1922 году, когда Михайловское было объявлено Государственным заповедным имением, колония цапель значительно пополнилась. Сюда прилетела группа цапель, жившая дотоле в вековой роще у стен древнего Спасско-Елизаровского монастыря, находившегося в 20–25 километрах к северу от Пскова. После Октябрьской революции монастырь опустел, монахи разбежались, и в 1921 году он был передан Псковскому институту народного хозяйства для размещения в нем естественно-научной станции и общежития студентов.
"Время было тяжелое, с питанием студентов было очень плохо, и ребята стали лазать на деревья, забирать птичьи яйца, охотиться за цаплями… - рассказывает бывший преподаватель института - ныне ленинградский профессор-геолог Л. Н. Дзенс-Литовский. - И вот однажды вся Елизаровская колония цапель исчезла. А вскоре стало известно, что эта стая переселилась в Михайловское".
Цапля - птица беззащитная. Обороняться от недругов она не умеет. Природа наделила ее лишь истошным криком. Вот ястреб или орел налетает на зуёво гнездовье, и всё пушкинское село оглашается сплошным птичьим воплем. В другом месте этого не услышишь…
Иной раз бывают у цапли ссоры с надоедливыми посетителями Михайловского. Подойдет какой-нибудь суетливый человек поближе к сосне, на которой гнездо цапли, начинает кричать и хлопать в ладоши, чтобы заставить птицу помахать крыльями и дать голос. Тогда разгневанная цапля повернется задом к такому дяде, поднимет хвост и пустит в него большую белую струю…
Когда молодые цапли начинают учиться парить, они часто выпадают из гнезда. Я их подбираю, зову ветеринара, он осматривает птицу и, если есть в ней какая поломка, накладывает лубок. Лечим ее, кормим свежей рыбешкой, лягушками. Птица живет в вольере, в саду Михайловского, а потом она выходит в сад, пробует летать, а там, смотришь, взмоет в небо и улетит к своим сородичам у озера Маленец.
В последние дни октября, когда ложится на землю осенний туман и "сребрит мороз увянувшее поле", птицы всей стаей собираются на своих соснах, отпоют прощальную песнь и улетают в дальний путь.
И тогда в Михайловскую обитель приходит грустное безмолвие.
Пушкин любил рисовать. Многие рукописи его произведений покрыты самыми разнообразными набросками. Это и автопортреты и портреты его друзей, братьев, товарищей, это и явления природы - деревья, кусты, кони… и птицы.
МИХАЙЛОВСКИЙ СКВОРЕЦ ЗАЛЕТЕЛ В БОЛГАРИЮ
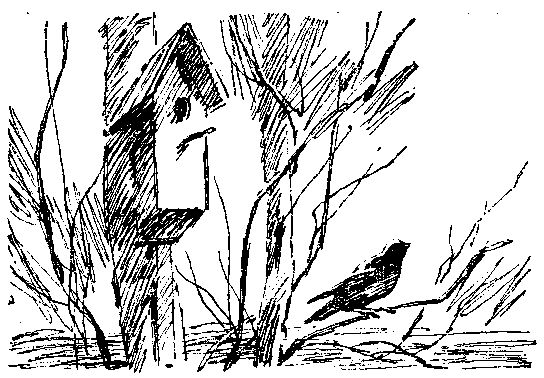
В Михайловском много птичьих домиков, штук триста будет. Деревья в заповеднике большей частью старые, ветхие, больные. На них постоянно нападают разные жучки-вредители - точильщики, пилильщики и другие всякие. Ученые говорят, что истинные спасители таких деревьев - птицы, что тысяча семей скворцов, например, за одно только лето уничтожает два вагона древесных вредителей.
Здешние лесники - народ изобретательный, заботливый. Они понаделали птичников самых разных. Тут и маленькие терема, избушки, светлицы, колоды, - не только обыкновенные ящички. И всюду в них гнездятся пернатые друзья заповедного места.
Ставили как-то ранней весной в Михайловском новые домики для скворцов и синичек. Разница между теми и другими небольшая - дырка-лазок у синичников поменьше, вот и всё. Ставили новые на тех местах, где были старые, прохудившиеся.
В одном старом домике уже устроился скворец. Улетел рано утром из старого, а прилетел вечером и не заметил, что домик-то новенький. Как на грех, лесники сделали ошибку: на место скворечника поставили синичник. Подлетел скворец, сунулся к дырке, туда-сюда - пролезть не может. Решил проскочить с ходу, разлетелся - ничего не получается. Наконец как-то втиснулся. Вскоре в домике послышалась возня. Оказывается, туда-то скворец залезть ухитрился, а вот обратно вылететь - не может, бьется, словно в тюрьму попал.
Смотрю: что дальше будет? Скворец и так и этак пробует вылететь - ничего не получается. Запищал даже с горя. Решил я помочь беде пичугиной. Взял лестницу, приставил ее к дереву и полез к домику, чтобы садовым ножом увеличить леток. Смотрю - скворец в ужасе забился в угол, притаился и глаза закрыл. Увеличил я дырку, спустился на землю и жду. Замер скворец, не показывается, да так долго, что и я уже стал думать: может, птица со страху богу душу отдала? Смотрю, нет. Появился в дырке кончик клюва, потом клюв, за клювом голова - и… скворец пулей вылетел из домика. Два дня мой сосед и близко не хотел подлетать к домику, а потом всё же вселился - вероятно, решил, что тюрьма ему приснилась.