Многие выступления публициста получали самый широкий читательский отклик. В этой связи нельзя обойти вниманием статью "О культуре и мещанстве", опубликованную в "Правде" 27 ноября 1925 г. В ней автор хотел ограничиться, по его собственной оценке, лишь постановкой на обсуждение нескольких вопросов для читающей молодежи. Однако на статью поступило такое обилие откликов, что в рамках газетной статьи ответить на них не представлялось никакой возможности. Пришлось написать целую объемистую брошюру, которая и увидела свет спустя год после публикации статьи в "Правде". Да и в брошюре была использована только часть откликов. Проблема, поднятая в статье, оказалась так велика и значительна, отмечалось в предисловии к брошюре, что над ее разрешением еще долго и напряженно будет работать коллективная мысль партийно-советской общественности. Проблемы, затронутые в статье, вызвали острую полемику и в среде журналистов. С резкой критикой отстаиваемых Л.С. Сосновским идей выступил Абрам Аграновский. "Две ошибки Сосновского (Обед или галстук? Западноевропейский коммунизм)" – так озаглавил он свой ответ, в котором заявлял: "Тов. Сосновский, хваля немцев за культуру, не заметил, что он невольно перехвалил и их строй и всю капиталистическую Европу, которая справедливо выставлялась до сих пор нами как "гибнущий антагонист коммунистического рая"". И эту ошибку тов. Сосновский собственноручно исправит" . Понятно, такой "ошибки" публицист не признал, как не признал и того, что он проповедует культуру "буржуазную" и что там, за границей, уже коммунизм. Зато, задавшись целью обстоятельнейшим образом разобраться в чрезвычайно важном для нас вопросе, что такое подлинная культура, он обстоятельно анализирует статью А. Аграновского, которая в несколько ином виде появилась еще раньше в харьковской газете "Коммунист" под заглавием "Культ галстука и культура классовая". Мол, по словам Сосновского, размышляет в своих публикациях А. Аграновский, на Западе все сыты, все счастливы, все довольны, значит там – коммунизм. "Нет, – парирует Л. Сосновский, этого еще не получается. Зато получается впечатление недостаточно чистоплотного, недостаточно культурного собеседника т. Аграновского. Я ему говорю, что в Дании на всех шоссе стоят без призора бидоны с молоком и никто их не ворует. В Париже и Женеве по утрам у дверей квартир спокойно кладут белые булки, молоко и прочее. А у нас на московских улицах даже урны-плевательницы цепями прикованы, чтоб никто не украл. Аграновский же "ловит" меня на слове: "Значит, в Европе уже коммунизм? Значит, там нет воров, нет болезней (!!!)"". Нет, не значит... Нужно только более добросовестно относиться к спору и больше ничего" .
Борьба против нашей ужасающей бескультурности должна вестись по всем направлениям – такова главная мысль брошюры Л.С. Сосновского. Иные полагают, отмечает он, покуда мы бедны, следует и на пол плевать, и на чужие кровати с ногами забираться, и "девчат лапать". Нет, утверждает публицист, не пассивное ожидание, что вместе с ростом материального благополучия придет к нам и культура, а самая активная борьба за новую культуру. Именно борьба, подчеркивает он, и эта борьба немыслима без понимания того, чему следует учиться у Запада и чему не следует. И разъясняет: "Следует учиться всему, что способствует успеху в нашем народном хозяйстве, заимствовать и овладевать машинной техникой, и умелую организацию кооперативов и многое другое. Датская молочная кооперация вывозит из страны 7 млн пудов масла, насчитывая в своем центральном союзе всего десяток-другой служащих. У нас Маслоцентр вывозит всего 2 млн пудов, а служащие насчитываются сотнями" . Приводя множество таких обидных для нас параллелей, подчеркивая, что "гнилой Запад" не знает ни наших сплошных неурожаев, ни регулярного планомерного выгорания деревень, настойчиво втолковывая, что все это и есть культура, публицист заключает: "Нужна ли нам такая культура, чтобы поля давали вместо 50 пудов – целых 100 и больше, чтобы корова давала втрое больше молока, чтобы неурожаи отошли в область преданий и легенд, чтобы эпидемии прекратились, и прочее, и тому подобное? Ну, разумеется!..Мы будем учиться у Запада всему, чему можно научиться, и отнюдь не будем фыркать на западные порядки только потому, что там буржуазный строй" .
Многие приведенные в брошюре отклики читателей свидетельствовали, что статья Л.С. Сосновского заинтересованно обсуждалась на собраниях читателей, получала их единодушную поддержку. "Пользуюсь случаем сказать, – говорилось в письме рабкора из Твери А. Максимова, – что статья ваша "О культуре и мещанстве" имела громадный успех среди рабочих. Этот номер газеты переходил из рук в руки и зачитывался, что называется, до дыр. Особенно ею довольны рабкоры "Пролетарки". По выходе этого номера газеты рабкоры при встрече задавали вопрос: а вы читали в "Правде" статью т. Сосновского? Эта ваша статья многих и на многое заставила переменить взгляды. Она является для нас моральной базой" .
Немало статей и очерков Л.С. Сосновского объединено в его книгах общим заглавием "Люди революции".
Из них следует выделить такие статьи и очерки, как "Смагин", "Мастер Клюев", "Красная директорша тов. Чекмизова", "К делу Кузнецова", "Памяти смелого изобретателя" и другие, посвященные энтузиастам труда и порядка, обладающим золотыми руками и настойчивым характером, тем, которые только и могут вытащить Россию из нищеты. Один из таких тружеников – самородок-изобретатель Смагин, скромный, бескорыстный, настойчивый искатель лучших путей для развития хозяйства страны. Для него главное, чтобы дело спорилось, а для этого, как он считает, необходимо на любом производстве иметь продуманные инструкции, помогающие даже новичкам трудиться с наибольшей производительностью. Без инструкций, решительно утверждает он, не пойдет Россия. Инструкции нужны и для истопника, и для тех, кто хлеб печет, и кто кожи выделывает.
Читаешь очерк, и все зримее предстает образ подвижного, резко жестикулирующего "длинными неуклюжими руками" Смагина, настойчиво убеждающего: "Уговорите тов. Ленина, чтобы он с Бухариным, Троцким и еще с какими-нибудь большевиками устроили ячейку, куда всякий Смагин может прийти со своими предложениями или изобретениями. Знаете, нас Смагиных много, только кликните клич" . Всем содержанием очерка публицист страстно призывает находить, всемерно поддерживать таких как Смагин. "Над могилой этого славного чудесного пролетария хочется крикнуть партии: "Товарищи, берегите Смагиных! Это – лучшее, что есть в народных массах, ее мятущиеся души, ее праведники. Берегите Смагиных, пока они живы. Внимательнее к ним относитесь, окружайте их заботой и поддержкой, хотя бы и с нарушением всяких формальностей. Берегите Смагиных, не проглядите их вокруг себя"" .
Вопиющая нелепость, что такие, как Смагин, остаются неизвестными, а порой и гонимыми, с горечью писал Л.С. Сосновский. Именно таким гонимым оказался талантливейший, не получивший никакого образования, но сумевший сделать пропеллер лучше иностранного, лучше самого профессора Жуковского, основателя школы советской авиации, самоучка-изобретатель Кузнецов. Но его не только не признали автором винта, работающего на тысячах самолетов, но еще и лишили зарплаты и выселили из "казенной" квартиры. "На днях, – пишет публицист, – Кузнецов сказал мне: "О Смагине, когда он умер, вы написали хорошо и справедливо. Неужели и мне нужно удавиться, чтобы Советская Россия признала мои права и заслуги"" . Я принял это, как пощечину, признается автор очерка. Как могло получиться, что ни журналисты, ни Советская власть не защитили изобретателя, не помогли закрепить за ним право на винт "системы Кузнецова", не помогли получить ему положенное вознаграждение. Если в недельный срок этого не сделают, кому полагается, пусть вмешается пролетарский суд. "Пусть трибунал, – говорится в заключение очерка, – станет на защиту преданных делу тружеников как от заговора дипломированной касты, так и от мертвого формализма бездушных главкистов" .
Аналогичными мотивами пронизан и очерк о мастере Клюеве. Рассказывая об этом виртуозе литейного дела, который год за годом льет металл для паровозов который достоин самого высокого вознаграждения и о котором тоже забыли, публицист не может не сказать: "Грустно, когда такие даровитые пролетарии, как Клюев, после 52 лет труда продают с себя пиджак, чтобы поддержать свое существование" .
Значительное место в публицистическом наследии Л.С. Сосновского занимают очерки о журналистах, и не только всеми признанных, но и рядовых этой труднейшей профессии. К числу самых проникновенных следует отнести очерк "Рыцарь пера" – о редакторе миргородской уездной газеты Рогозовском, одним из первых среди журналистов награжденным орденом Трудового Красного Знамени. "Истории угодно было улыбнуться и остановить свой выбор на журналисте из незабвенного гоголевского города Миргорода", – так начинается повествование о Рогозовском, который из простого наборщика превращается и в редактора, когда занимавший этот пост заболел. И вот, не покидая поста наборщика, сам стал писать статьи, сам их редактировать, сам печатать и распространять газету. Настойчиво отстаивая правду, выступал против местных властей, был заключен по их указанию в тюрьму, но ничто не смогло сломить мужественного журналиста, по достоинству награжденного за честное служение народу высокой правительственной наградой. "Братья-журналисты, – читаем в очерке, – склоните перья перед истинным рыцарем пера, в далекой глуши героически стоявшим на посту красного журналиста" .
Неизменно выступал Л.С. Сосновский в защиту рабкоров, судьба которых была наиболее трудной, так как немало находилось тех, кто непременно старался указать на якобы забытое ими "свое место". Рабкоров не только шельмовали, преследовали, но нередко и убивали.
Роковые выстрелы унесли немало рабочих и сельских корреспондентов: на Смоленщине селькора Тихонова из Рославльского уезда, в Москве рабкора "Правды" Спиридонова; на Украине в Дымковском поселке Николаевского округа Одесской губернии в 1924 г. был убит селькор Григорий Малиновский. Это убийство превратилось в громкое дело всесоюзного значения. Оно оставило заметный след и в журналистской деятельности Л.С. Сосновского: кроме статей в газете, он выпустил брошюру "Дымовка" по материалам судебного процесса, на котором выступал в качестве общественного обвинителя от "Правды".
Брошюра "Дымовка" – единственная в своем роде содержащая подробный, документальный рассказ о деле по убийству селькора. Григорий Малиновский не мог мириться с беззакониями, творимыми местными властями, и выступил с разоблачением некоторых из них в окружной газете "Красный Николаев" с заметками "Бравый председатель" и "Ряженый дурень". В первой изобличались проделки председателя комитета незаможних селян (бедных крестьян) Михаила Тулюпа, во второй – члена этого же комитета Журавского. Озлобленные выступлением селькора дымовские воротилы, боясь, что Григорий Малиновский изобличит их всех, незамедлительно стали готовить его убийство.
На роль исполнителя этого замысла они избрали родного брата Григория – Андрея Малиновского, которому стали наговаривать, что Григорий по своему недомыслию совершает враждебные честным людям действия и погубит не только их, но и его самого. Наговоры возымели действие, и 28 марта в переулке поселка Дымовского глухой ночью прозвучал выстрел, в упор сразивший селькора.
В газете "Красный Николаев" до июля не знали о гибели сельского корреспондента. Никто вообще не знал, от чьей руки пал селькор, до тех пор, пока Андрей Малиновский не явился с повинной и во всем не признался. Расправа с селькором всколыхнула всю страну. Судебный процесс продолжался с 7 по 23 октября 1924 г. Приговор суда по делу Григория Малиновского был приговором всем "рыцарям обреза", писал в своей брошюре Л.С. Сосновский, всех дымовок, рассеянных по СССР. Главные подстрекатели убийства Григория Малиновского Михаил Тулюпа и Константин Попандопуло были приговорены к расстрелу. Андрею Малиновскому, явившемуся с повинной и искренне раскаявшемуся в содеянном, расстрел заменили семилетним сроком тюремного заключения. Но главным приговором над всеми, поднимавшими руку на селькоров, явилась брошюра Л.С. Сосновского – пламенное слово в защиту рабочих и сельских корреспондентов.
С гордостью за таких, как Малиновский, он писал: "Селькора никто не назначает и никто не выбирает. Звание селькора не сулит никаких привилегий, а, как раз наоборот, навлекает на него гонения, притеснения, расправы – вплоть до убийства. При таком естественном отборе в селькоры тянутся только те, у которых сознание не мирится с неправдой, беззаконием, произволом. Тянутся люди, чуткие и отзывчивые к общему делу трудящихся" . На защиту селькоров и рабкоров встали миллионы советских людей. Президиум ЦИК СССР поставил на обсуждение вопрос о государственном обеспечении семей селькоров, погибших за честное выполнение революционного долга.
О том, какое воздействие оказывала на читателей оперативно изданная брошюра Л.С. Сосновского, свидетельствуют письма в его адрес, в одном из которых сообщалось: "Будучи дома в селе, я захватил с собой вашу книжку "Дымовка". Читал я ее не только в частных небольших группах крестьян (не обходил и одиночек), но однажды почти всю брошюру прочитал на сельском сходе. Хоть после этого председатель Совета и немного косо посматривал на меня, но зато крестьяне просили меня передать автору брошюры признательность... Надо принять серьезные меры к продвижению подобных книжек в деревню. Они делают большое дело" .
В одном из лучших своих очерков "Комиссар Дмитрий Фурманов" Л.С. Сосновский писал: "Фурманову было что рассказать о революции. И он, бесспорно, рассказал бы о ней еще много достойного. Но он погиб от злосчастной болезни. Оборвалась жизнь такая яркая и содержательная. Только что начинавший свою литературную работу по-настоящему, он должен был дать стране очень многое" .
Многое дал и еще многое мог дать стране и Л.С. Сосновский, но и он слишком рано ушел из жизни. И не "злосчастная болезнь" оборвала его талантливую публицистическую деятельность, а причиной тому – судьба безвинных жертв сталинских репрессий. 1937 год оказался роковым и для Л.С. Сосновского, которому в то время едва исполнилось пятьдесят, и впереди еще могло быть немало интенсивной творческой деятельности.
Неизвестные страницы отечественной журналистики (М.: ИКАР, 2006. С. 29–51)

Через год – в школу. С отцом Василием Филипповичем,
младшей сестрой Валей, мамой Анной Георгиевной
и бабушкой Фетисьей Федоровной. 1931 г.
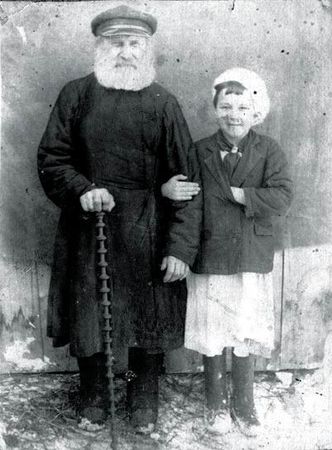
Один из моих довоенных снимков:
дед Кузнецов Филипп Никифорович с сестрой Валентиной.
1939 г.

В период боев за Смоленск
1943 г.

Витебск освобожден.
Впереди Кенигсберг. 1945 г.

Взят не только город-крепость Кенигсберг,
но и преодолен Большой Хинган! Мы в Порт-Артуре!
Пришлось заняться приведением в порядок сохранившегося
с 1905 года фонда книг 71-го Сибирского стрелкового полка
и поработать заведующим библиотекой 39-й армии.

Еще в военной форме,
но уже студент отделения журналистики
филологического факультета МГУ.
Сентябрь 1947 г.

Счастливая пора студенчества.
С первокурсником отделения журналистики филологического
факультета Московского университета им. М.В. Ломоносова
Сашей Копцевым. А я уже на третьем курсе. 1949 г.
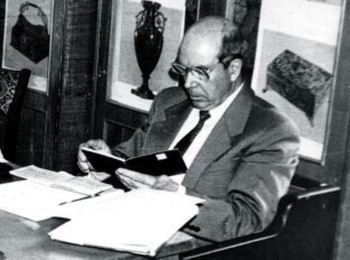
Повседневная факультетская работа: лекции, экзамены, зачеты.
На экзамене по истории отечественной журналистики. 1989 г.
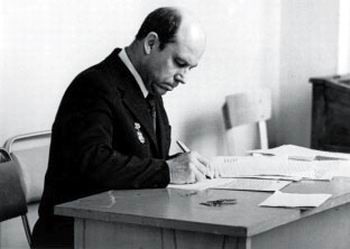
Перед заседанием кафедры. Еще раз уточняется план
научной работы на очередное полугодие. 1992 г.