Я взмолился:
- Розалия Самойловна, никогда я не работал на такой работе! Не справлюсь!
М. В. Фрунзе нахмурился:
- А вы думаете, товарищ Дзержинский до революции получил опыт чекистской работы?! Но взялся, раз нужно партии, революции. Вам это партийное поручение. Учтите: гражданская война не окончилась, она только приняла другие формы, контрреволюция ушла в подполье, но не сдалась. Борьба будет не менее жестокой, чем на фронте. Вы и на новом посту остаетесь солдатом. Желаю успеха.
Михаил Васильевич пожал мне руку и ушел: его ждали неотложные дела. Розалия Самойловна протерла пенсне и внимательно посмотрела на меня:
- Товарищ Папанин, в ЧК не идут работать по принуждению. Но работа эта сейчас - самая нужная революции. За вас поручились товарищ Гавен и другие члены партии, которые знают вас по крымскому подполью и гражданской войне.
- Буду трудиться там, где приказывает партия, - ответил я.
Я проводил облавы, обыскивал подозрительные дома, выезжал в крымские леса с отрядами ЧК ловить белобандитов, экспроприировал ценности у богатеев, которые не успели эмигрировать. В меня стреляли, и я стрелял. Иногда со злостью думал, что на фронте было легче и проще.
И ночью и днем мы жили, как на передовой, спали не раздеваясь. Нередко пальба начиналась под окнами ЧК. Утром составлялась грустная сводка: убийств - столько-то, грабежей, краж со взломом - столько-то, похищено ценностей - на столько-то.
Почти все чекисты жили на конспиративных квартирах, периодически их меняя. И у меня были такие квартиры. Отправляясь домой, я всегда наблюдал, не идет ли за мною кто-нибудь. Это была не трусость, просто разумная осторожность: мы и так теряли одного работника за другим. Одних убивали из-за угла, другие гибли в перестрелках, третьи - при обысках. Были и такие, что гибли бесславно, но их - считанные единицы. Я только раз за всю мою службу в ЧК был свидетелем случая, когда виновными оказались свои же. Случай этот потряс меня.
Мы по постановлению областкома РКП(б) от 31 января 1921 года проводили изъятие излишков у буржуазии.
Пришли к нам два новых работника. Я сразу же проникся к ним симпатией: моряки, энергичные, красивые, толковые ребята. В работе они не знали ни сна, ни отдыха. Пришли они однажды от одной бывшей графини, принесли баул конфискованного добра: тут и браслеты, и кольца, и перстни, и золотые портсигары. Высыпали все на стол и говорят:
- Вот, стекляшечку еще захватили.
Кто-то из принимавших конфискованное спросил:
- А вы не помните, такие "стекляшки" еще были?
- Да, в шкатулке.
- Немедленно забрать шкатулку!
Морячки вернулись быстро:
- Графиню чуть кондрашка не хватила, когда увидела, что мы за коробочкой пришли.
- Еще бы! Стоимость этой коробочки - несколько миллионов рублей. Это же бриллианты. Надо бы вам, товарищи, научиться распознавать ценности…
Но вот прошло какое-то время - и стали мы замечать: раздобрели морячки, хотя питание было отнюдь не калорийным, нет-нет да и водкой от них пахнет. Решили проверить, как они живут.
Вечером в их комнату постучала женщина:
- Я прачка, не нужно ли постирать белье?
Через день "прачка" - это была наша сотрудница - принесла им все чистое. А Реденсу сообщила:
- Оба раза комната была полна народу, сидят и гулящие девки с Графской, стол ломится от закусок.
- Надо выяснить, откуда у них деньги, - нахмурился Реденс. - Неужели они что-то утаивают, сдают не все конфискованное?
Решили испытать моряков. В одной из квартир, где жил наш сотрудник, спрятали восемь бриллиантов и десять золотых червонцев. Морякам сказали, что там живет злостный спекулянт, нужно сделать обыск. Как же мне хотелось, чтобы они принесли все восемь бриллиантов и все золото! Принесли они шесть бриллиантов и пять червонцев. Теплилась надежда: может, не все нашли? Пошли проверять: нет, тайники были пусты.
Моряков арестовали. Они и не подумали отказываться от содеянного:
- Пять монет недодали, велика беда! Буржуи жили в свое удовольствие, из нас кровь пили, а нам и попользоваться ничем нельзя?!
Реденс, присутствовавший при допросе, взорвался:
- Попользоваться? А по какому праву? Это все нажито народом, это все народное достояние, на которое вы подняли руку. В стране голод, а вы - в разгул! Революцию продали! Судить вас будет коллегия.
У меня подкосились ноги, когда я услышал приговор: расстрел. Ребята молодые - ну, ошиблись, исправятся, они же столько еще могут сделать! Дать им срок, выйдут поумневшими! У меня подскочила температура. Изнервничавшись, я свалился в постель. Реденс пришел ко мне:
- Жалеешь? Кого жалеешь?! Запомни, Папанин: судья, который не способен карать, становится в конце концов сообщником преступников. Щадя преступников, вредят честным людям. Величайшая твердость и есть величайшее милосердие. Кто гладит по шерсти всех и вся, тот, кроме себя, не любит никого и ничего: кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без уничтожения зла. Это не мои слова. Так говорил Чернышевский. И в этом, - Реденс говорил отрывисто, словно вбивал свои мысли в мою голову, - проявляется революционный гуманизм. Мы должны быть беспощадно требовательны к себе. Жалость - плохой помощник.
Как мародеров, требовал расстрелять моряков начальник оперативной части Крымской ЧК Я. П. Бирзгал.
Моряков расстреляли. Когда об этом узнали в городе, авторитет ЧК стал еще выше.
А я долго не мог забыть морячков. Если бы их вовремя предостеречь… Выросший в бедности, знавший только трудовую копейку, я и представить не мог, что у золота такая ядовитая сила, перед которой не могут устоять не только самые слабые духом…
Ценностей через мои руки тогда прошло немало. Все реквизированное поступало ко мне. Опись мы вели строжайшую. Приехали, как мне сказали, великие знатоки своего дела. Ну и заставили они меня поволноваться! Я и не предполагал, что у иных драгоценностей есть своя родословная.
Увидели они сервиз. Для меня чашки ли, тарелки ли - безразлично, из чего они, было бы что из них есть. Один из проверявших всполошился:
- Это же севрский фарфор, семнадцатый век, не хватает одной чашки и салатницы. - Он буквально сверлил меня взглядом, словно думал, не украл ли их я.
- Пойдемте по зданию посмотрим, может, они и есть, - предложил я.
Из чашки, оказывается, часовой пил, а из салатницы мы сторожевого пса кормили.
Специалист только ахнул, увидев это. А сервиз, как и другие антикварные вещи, был доставлен в ЧК из домов, опечатанных после панического бегства контрреволюционной буржуазии и помещиков. Бирзгал и Реденс хорошо разбирались в этих вещах, но у них, конечно, руки не доходили до них, других забот было хоть отбавляй.
Месяц работала комиссия. Наконец меня вызвали к Землячке. Она вышла из-за стола и расцеловала меня:
- От имени партии вам благодарность за сбережение огромных ценностей.
В 1938 году на приеме в Кремле после нашего возвращения со станции "Северный полюс-1" я слышал, как Розалия Самойловна сказала:
- Вот кто спас и сохранил все крымские ценности.
Служба в ЧК была для меня серьезной школой, научила и лучше разбираться в людях, и не рубить сплеча, когда речь шла о судьбе человека.
Царскими законами мы, естественно, пользоваться не могли, новые молодая республика только еще создавала. При определении меры виновности того или иного арестованного следователю приходилось полагаться на свою революционную сознательность.
А следователи, что естественно, были разные. Одни дотошные, объективные, стремившиеся во что бы то ни стало доискаться до истины, разобраться, что же произошло. Другие верили больше бумажкам, чем людям, судили прямолинейно: раз белогвардеец - расстрелять как врага Советской власти. Но таких было немного. Большинство старалось разобраться, прежде чем вершить строгий суд.
Как комендант Крымской ЧК, я ознакомился с делами, которые вел один из следователей. Чуть ли не на каждом стояла резолюция: "Расстрелять". Признавал этот следователь лишь два цвета - черный и белый, полутонов не различал. Врагов, настоящих, закоренелых, достойных смертной кары, было от силы десять, остальные попали в ЧК по недоразумению. Я пошел к Реденсу и показал просмотренные дела.
Реденс обычно не демонстрировал своих чувств. А тут, вчитываясь в бумаги, почернел. У Реденса в этот момент сидел и Вихман - председатель Крымской ЧК. Тот, просматривая дела, тоже ни слова не сказал, я только видел, как у него на скулах перекатывались желваки.
На экстренно созванном заседании Реденс сказал кратко:
- Мы - представители самой гуманной, самой справедливой власти. Это не значит, что мы всепрощенцы. Но если кто-то позволит себе поспешить с выводами - будем карать беспощадно. Мы не можем дискредитировать ни Советскую власть, ни ЧК. Наш прямой долг - строжайше выполнять требования революционной законности.
Реденс был крут, но справедлив. Не давал никому поблажки, органически не переносил даже малейших проявлений панибратства и хамства.
Однажды я зашел в камеру к гардемаринам, спрашиваю:
- Какие претензии?
Что-то хотят сказать и не решаются.
- Смелее, чего боитесь, вы же моряки, - сказал я.
Один набрался храбрости:
- Ваш заместитель ударил арестованного.
Вызвал я заместителя прямо в камеру:
- За что ударил? Ты что, жандарм, околоточный надзиратель? На первый раз - пятнадцать суток строгого ареста. Иди и напиши рапорт, все объясни.
Заместитель пошел и написал жалобу на имя Реденса: Папанин дискредитирует его в глазах белогвардейской нечисти.
Реденс на жалобе наложил резолюцию: "С наказанием согласен".
Реденс не уставал повторять: "У чекиста должны быть чистые руки". Каждый случай самосуда - на руку злейшим врагам Советской власти.
Всю жизнь благодарен я Реденсу и Вихману еще и за то, что они заботились и о нашем внешнем виде, и о нашем языке, делали внушения своим сотрудникам, которые пользовались блатным жаргоном.
- Знать жаргон надо, - учил Реденс, - но пользоваться им при допросе - значит, ставить себя на одну доску с преступником.
Расскажу еще об одном эпизоде тех лет.
Ходил хлопотать ко мне за нескольких случайно задержанных студентов высокий темноволосый молодой человек с ясными глазами. Он горячо доказывал, что головой ручается за своих друзей. И приходилось мне поднимать их дела, идти к следователям.
Я забыл об этом "ходатае" и никогда бы не вспомнил, если бы через три с половиной десятилетия в коридоре Академии наук не остановил меня всемирно известный ученый.
- Иван Дмитриевич, помните ли вы, как по моей просьбе из тюрьмы студентов выпускали?! - спросил он и засмеялся.
Это был Игорь Васильевич Курчатов.
По долгу службы я много раз встречался с руководителями обкома партии и Крымского ревкома, докладывал им о проведенных операциях, получал указания. Председателем ревкома был Бела Кун, с которым я познакомился еще в Харькове. Часто видел я члена президиума обкома партии Дмитрия Ильича Ульянова. Дмитрий Ильич Ульянов был тогда начальником курортов Крыма.
Бывали недели, когда я не замечал суток, как и мои товарищи по работе, и глубоким вечером вспоминал, что не успел позавтракать. Однажды мне пришлось возглавить отряд моряков-чекистов, и мы дня три гонялись верхом на лошадях по лесам Крыма за бандой зеленых. Каких же только банд и антисоветских группировок не было в Крыму 1921 года! Они терроризировали население, совершали налеты на города и поселки, срывали мероприятия Советской власти.
К весне 1921 года контрреволюционные банды в большинстве своем были разгромлены. Крымский ревком и обком партии ко дню 1 Мая 1921 года объявили широкую политическую амнистию всем, кто скрывался от Советской власти. Многие бывшие белогвардейцы сдали оружие.
Завершили же разгром банд мы летом 1921 года. И я с удвоенной энергией взялся за работу, но попал в больницу.
Приговор врачей был: полное истощение нервной системы.
Отлежал я в больнице положенный срок и пошел к Реденсу, уезжавшему в Харьков:
- Не считайте меня дезертиром, но я больше не могу работать комендантом ЧК. Переведите меня куда угодно.
Реденс промолчал. Это было обнадеживающим признаком: он не любил обещать. Если что - сразу отказывал.
Вскоре мне пришел вызов в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, - работать военным комендантом Украинского ЦИК. Председателем ЦИК был Григорий Иванович Петровский.
* * *
Наступила пора восстанавливать разрушенное войной хозяйство страны, строить новое, Советское государство, новую жизнь.
Это было стремительное и счастливое время. Я учился в Плановой академии, строил радиостанцию в Якутии, несколько позднее на долгие годы связал себя с Арктикой, а затем - с проблемами создания советского научного флота, изучающего Мировой океан. Мне выпало великое счастье быть начальником первой в мире дрейфующей полярной станции, руководить всей огромной работой по освоению советскими людьми Арктики, а затем и Антарктики.
В заключение мне хотелось бы сказать юным читателям "Океана" следующее. Когда-то великий пролетарский писатель А. М. Горький говорил: "Всем хорошим во мне я обязан книгам". Я полностью присоединяюсь к словам Алексея Максимовича, но от себя хотел бы еще добавить: и флоту тоже. Я - потомственный моряк, всю жизнь был связан с ним самым непосредственным образом и могу с полным основанием и уверенностью заявить: флотская служба - это надежная и хорошая жизненная школа, достойное и мужественное занятие для молодого человека.
Дорогие, родные мои ребята, я уверен, все вы мечтаете о большой и интересной жизни, о замечательных подвигах. Это прекрасная мечта! Но помните, друзья: подвиг может совершить лишь тот, кто готов к нему, кто с малых лет сумел воспитать в себе волю и мужество, стремление к победе. Тот, кто умеет и любит работать, кто сможет выполнять свою работу в самых трудных условиях, кто найдет в себе силы преодолеть все эти трудности и выйти из них победителем. И еще помните, друзья, что профессии и моряка и полярника требуют от людей глубоких и всесторонних знаний. С неумелым, плохо подготовленным человеком море, так же как и Арктика, расправляется быстро и жестоко. Победить в схватке с суровой природой могут только знающие, стойкие, волевые люди, в совершенстве овладевшие своей специальностью.
Счастливого вам всем плавания в безбрежном океане жизни!
ПЛЕЩЕТ МОРСКАЯ ВОЛНА
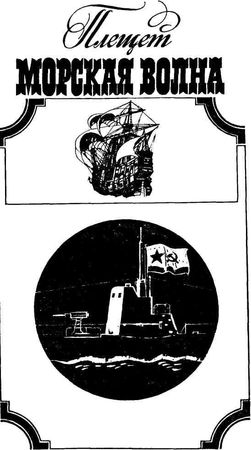
Ю. Иванов
ДЕВОЧКА С ОСТРОВА СЕЙБЛ
Повесть
ИВАНОВ Юрий Николаевич (1928 г. р.). Родился в Ленинграде. После окончания института работал несколько лет на Камчатке, затем в Калининграде. Довелось ему поработать и матросом на рыбодобывающих судах, и техником-ихтиологом, и первым помощником капитана. Член Союза писателей. Ему принадлежит около двадцати книг, в том числе "Кассиопея", "Золотая корифена", "Торнадо", "Острова на горизонте", "Дорогой ветров" и др.
- Док! А ну собирай свою санитарную сумку, - загремел в телефонной трубке могучий, рокочущий бас капитана. - Сигнал бедствия с острова Сейбл получили: подозрение на острый аппендицит. Обращаются островитяне ко "всем-всем" о помощи, а ближайшие "все-все" - это мы. Пойдешь на остров?
- Пойду?! Конечно, пойду! - радостно заорал я в трубку. - Сейчас подготовлю необходимый инструмент… Минут через десять буду готов.
- Не суетись. До острова еще несколько часов хода, - сказал капитан.
Вскоре я был готов.
Поднялся в ходовую рубку. Пощелкивал эхолот. Капитан, сидя на откидном стульчике, листал лоцию, вахтенный штурман следил за глубинами, а радист вызывал остров Сейбл на шестнадцатом канале радиотелефона.
- "…При подходах производить непрерывные промеры глубин, - громко читал капитан. - Пройдя банку Мидл-Банк, соблюдать особую осторожность…"
- Восемьсот… восемьсот… семьсот… - бубнил вахтенный штурман, вглядываясь в ленту эхолота. - Четыреста… четыреста…
- Хорошее место для стоянки - одна-две мили от северного берега острова… Слышите, старпом? - крикнул капитан.
- Туда и проложен курс, - отозвался из открытой двери штурманской рубки старший помощник капитана. Склонившись над штурманским столом, он разглядывал карту. - Что там локатор? Зацепился за остров?
- Уже вижу, - сказал навигатор, вжавшись лицом в раструб радиолокатора. - До острова восемнадцать миль.
- Хорошее место для стоянки, - повторил капитан. - "Глубина от девяти до восемнадцати метров. Грунт: песок, хорошо держит якорь". При смене ветра - немедленно уходить, опасаясь сильного волнения.
- Триста… двести пятьдесят… двести метров, - бубнил штурман.
- До острова десять миль, - сообщил радионавигатор.
- Самый малый! - приказал капитан и, захлопнув лоцию, соскочил со стульчика.
- Остров на шестнадцатом канале, - сказал радист и протянул трубку радиотелефона капитану: - Говорят, что уже видят нас, что уже спустили на воду свою шлюпку. Спрашивают: хирург ли наш врач?
- Спустили свою шлюпку? Ну и ладненько, - сказал капитан. - Нам меньше забот. Док, переговори! Ты ведь лучше всех по-английски чешешь…
- Алло, алло! Маринершиф на связи! - проговорил я в трубку и услышал шорох, поскрипывание, острое потрескивание. - Я врач-хирург рыболовного траулера "Сириус". Сообщите, что с больным…
- …острые боли внизу живота, справа. Тошнота, головокружение, слабость… - донесся чей-то встревоженный голос. - Нужна срочная консультация… Подозрение на острый аппендицит…
- Сто метров под килем… восемьдесят, - докладывал штурман.
- Вижу идущую навстречу шлюпку. - Капитан оторвал от глаз бинокль. - Ишь мчит… Старпом, стоит ли становиться на якорь?
- А зачем? - спросил старпом, выходя из штурманской.
- И я так думаю, - согласился капитан. - Командуй. Пускай боцман парадный трап майнает.
- Боцман! Майнай парадный тр-рап! - прорычал в микрофон старпом. И тотчас с палубы послышался недовольный голос боцмана:
- Ишь, парадный! Он что - старик какой? И по штормтрапу спустится.
Сделав свирепое лицо и выглядывая в открытое лобовое окно, старпом возвысил голос:
- Боцман?! Что споришь, стар-рая калоша… - Покосился на капитана, капитан отвернулся. - Говорю: майнай пар-радный. Приказ капитана!
Я пожал руки капитану, старпому, совсем еще юному штурману, которого мы все ласково звали Шуриком, и вышел из ходовой рубки. Траулер едва заметно скользил по сине-зеленой, усыпанной солнечными бликами, спокойной воде. Матросы толпились на верхнем пеленгаторном мостике, глядели на золотистую полоску земли. Раздувая пенные усы, неслась к траулеру широкая, глубоко сидящая в воде шлюпка. Трое мужчин в ярко-красных штормовых куртках сидели возле двигателя в корме и все трое дымили трубками. Один из них махнул рукой, поднялся и пошел в нос посудины. Смуглые, обветренные лица, чей-то веселый прищур светлых глаз, чья-то добрая улыбка.