Кто виноват? Что делать?
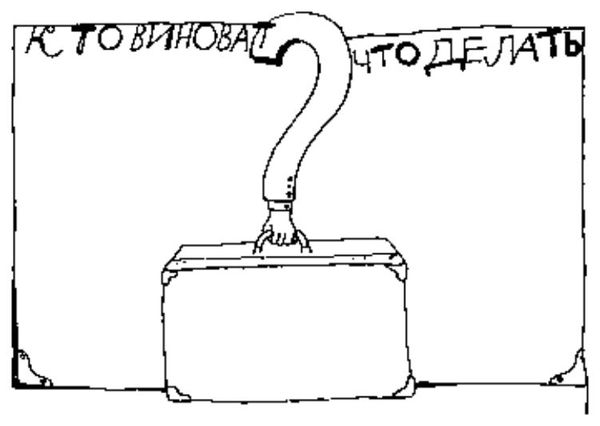
Провинциальный городок Бероун. На площади перед отелем сидит на чемодане оператор Валерий Мартынов. Он так и не снял своего заветного кадра, случившегося на пробах в Ольгино.
Середина марта. Валера ждет такси, которое вежливо вызвала гостиничная девушка. Вчера еще площадь толпилась отъезжающей на площадку группой, а сегодня пусто – объявлен бессрочный выходной. Все спят после недельной попытки снять заколдованный кадр и вчерашнего банкета по случаю дня рождения Светланы Кармалиты. На банкет Валера не пошел. Они с Германом столкнулись внизу у лифта, о чем-то коротко поговорили и расстались навсегда.
Еще в Ольгино Герман вскипел, увидев стометровую дорогу рельс, четырех белорусов, толкающих махину крана, незнакомого человека за пультом управления, а Валеру Мартынова у монитора.
– Как можно снять кадр, когда ты от него на расстоянии всей этой халабуды, когда ты глазами, своими, а не через телевизор не видишь глаз актера, не слышишь его сбитого дыхания, если его волнение не передается тебе?
Он всей душой желал провала операторской затеи, и, когда кран вырубился под зудящей от влаги высоковольтной линией, Герман остро почувствовал свою правоту. Но кадр, о чудо, удался, он был гениальной ошибкой процесса, подлинным шедевром, снятым на грани брака. И Герман велел Валере повторить это чудо в Чехии.
Валера заказал еще больший кран, будь он неладен.
Венгерский, с огромной телескопической стрелой. Выяснилось, что он не мог работать под двумя десятками поливальных установок, облепивших стены замка, и потому что в начале марта на вершине горы то дождь, то снег и всегда ветер. Полагаю, в этой ерунде Валера виновен не был.
Просто у них с Германом на первой неделе съемок вскрылись давние противоречия, которые до поры до времени замалчивал один и не решался прежде обнаружить другой.
В результате экспедиция, едва начавшись, повисла, потеряла смысл. Это ведь киноэкспедиция, а снять кино без оператора и всей его тщательно отобранной группы (улетевшей тем же рейсом) – нельзя.
И кто за это должен ответить? Режиссер, который, переломив себя, "лег" бы под оператора? Оператор, который, проведя полтора года подготовки, снимал бы против своего представления?
Но почему же они не выяснили все на берегу, прежде чем бросить в экспедицию огромную группу? В штабе съемок стояли на еженощной зарядке рации основных сотрудников картины – их было сто двадцать. Это же армия! И вот мы встали, не начав снимать.
Конец ноября. Двор "Ленфильма". Проба казни книгочея. Солдаты, прибалты Альгис Мацейна и Беанас Белинскас, топят в нужнике писателя Михаила Эльзона. Герман придумал, что книгочей вырывается от солдат и бежит, но его все равно топят. Валера ставит камеру так, чтобы на первом плане было отхожее место, позади дверца лачуги, из которой выводят жертву, а потом камера развернется, открыв широкий двор, по нему хромающий старик потрусит от солдат. Герман смотрит репетицию и велит переставить камеру так, чтобы справа – лачуга книгочея, а слева – нужник, и книгочей бежит обратно в свою лачугу. Валера недоумевает:
– Но они его тут же поймают, какой смысл?
– Это его дом, как ты не понимаешь?
Они долго спорят, Валера не соглашается, но снимает, как велит Герман.
А что было бы, вскройся эти противоречия раньше, до отправки группы в экспедицию?
Из-за задержки полетели бы договоренности с объектами. Но они и так полетели, мы пробыли в Чехии вместо планируемых двух месяцев – четыре.
Так вот, с десятилетней дистанции предположу: Герман был готов снимать; он подошел к той точке, когда снимать уже было необходимо, когда проверено и опробовано было все. Но он чувствовал: рывок может обернуться провалом, катастрофой.
Почему – что-то мешало?
Да.
Мешала готовность.
Общая уверенность, убежденность, что мы что-то знаем, что есть метод, ход, правила.
Эту уверенность нес в себе Валера, и Герман поставил ему нерешаемую задачу – повторить чудо! Он знал – это невозможно. А если бы Валера смог… Если бы смог, другой был бы разговор, Валера переиграл бы Германа, и тот, я уверен, принял бы это, он всегда готов проигрывать, терпеть любое поражение, лишь бы выиграло дело, лишь бы родился живой кадр, лишь бы слезами над вымыслом облиться.
Но Валера сгорел на этой задаче. Группа дрогнула, продюсеры развели руками и погасли, уже никто ничего не понимал. Банкет Кармалиты походил на пир во время чумы. Единственный спокойный человек в этой ситуации был Герман, удивительно, даже внешне: победивший боевой бегемот перед еще не начатым сражением. Но он решил главную задачу: убрал заградотряды, снял прикрытие, отказался от тяжелой техники и вышел из крепости в контратаку. Все обосрались (его словечко) и готовились к гибели, надежды не было.
Это и были его ход, расчет, ставка.
Валера сделал бы ситуацию на картине предсказуемой, угадываемой, надежной. Он сам признался мне спустя пять лет:
– Лёша, я хотел помочь ему правильно и методично решить задачу – снять картину за год.
Но ни методичность, ни правильность в планы Германа не входили. Он не хотел картину снимать, он хотел ее выращивать. То есть подчинить все и вся внутреннему закону самого фильма, который был для него terra incognita, и потому не могло быть никаких правил. И любая – чья бы то ни было – уверенность только портила все дело, разрушала задачу.
Впрочем, тогда внутри ситуации никто ничего не понимал, разве только Кармалита. Она верила в Лёшечку и сгрызала все, что ему мешало, – как безумная Кассандра. Она знала: на этой картине один закон – Герман, рискующий перепуганный камикадзе, с детским отчаянием повторяющий: "Не надо делать, как мне лучше, – сделайте, как я прошу!"
Капля керосина для "букета" в коктейле.
Кирилл Черноземов
Оговорюсь, пока не поздно: вся история – уже рассказанная и предстоящая – вранье, гротеск, анекдот. И не потому, что хочется приукрасить или путаются за давностью лет факты, смешиваясь в обобщениях, – это само собой разумеется. Нет, но иначе не расскажешь – таково свойство главного персонажа. Слушая его байки, лавируя в блистательных и невероятных парадоксах, всякий раз недоумевая: "Неужели это так?" – я просто не вижу другого способа, интонации, ключа. Критики придумали назвать метод и жанр его фильмов гиперреализмом. Но это вялый термин, пугливая тавтология, беспомощная попытка фиксации сумбурной, лишь чувством ухватываемой загадки.
Как-то на третьем году съемок Герман слег в больницу с тяжелым легочным диагнозом. Работа встала, боялись – навсегда. Врачи обнаружили в его легких какую-то неведомую бациллу. Еще бы, он снимает кино про инопланетное средневековье – надышался. Он еще на "Лапшине" месяцами ходил по тюрьмам, сидел часами в моргах судмедэкспертиз; вся группа блевала, падала в обморок, убегала, а он смотрел и вживался – погружал своего героя в реальную среду. Поэтому легко допустить, что, сиганув на пять веков назад через полотна Брейгеля и Босха, вдохнув полной грудью той правды, он зацепил тамошнюю бациллу – прививки-то соответствующей не было.
– Вы непредсказуемы, Алексей Юрьевич! – кричал режиссер Богин в последний день их совместной работы.
Присоединяюсь, и более того – для меня он остается непредсказуемым, не ловится ни сачком точных фактов и сказанных слов, ни впоследствии пришедшим пониманием.
Перефразируя Есенина, удивленно замечаю: "Большое близится на расстоянии".
Поэтому – все вранье.
Только удивление и остается неизменным.
Двор чешского замка Точник по колено залит грязью, ее привезли из… не помню откуда; но почему-то называется она "американская грязь". Может быть, специально для средневековых картин ее месят в Голливуде? По двору выложены дощатые мостки, офактуренные под декорацию. Следуя распоряжениям руководства национального заповедника, группа обязана поверх обуви надевать медицинские бахилы, как в больнице. Так все и ходим по мосткам в синих, залитых грязью мешках.
Стены замка украшены очень натуральными и неаппетитными потеками окаменевших за столетия экскрементов – застывшими говнопадами. На какой-то картине Герман увидел какающего человечка в маленькой будке на крепостной стене. Воображение живо дорисовало, сколько дерьма должно налипнуть за века эксплуатации подобных сортиров, и, конечно, их должно быть много, и вот – стены замка-музея сплошь угвазданы окаменелым дерьмом. То, что в реальности отхожих мест было меньше, а всё падавшее на стены непременно смывалось дождями, мастеру кажется мелочным и тоскливым копанием в деталях или в этом добре, что так щедро облепило древнюю кладку замка. Дождь тоже предполагается – наверху по всему периметру двора торчат поливальные установки.
Герман, с палочкой прошествовав по мосткам в угол двора, косится на белый венгерский кран. Группа идет следом, но мастера не обступить – мостки не позволяют: так и тянется вереница внимающих, начиная от Валеры Мартынова, потом нас с Юрой Оленниковым, и дальше до ворот, как очередь в мавзолей.
– Ну, тут будут лежать трупы монахов, груды оружия и отрубленных частей тел…
– Оксана, записывай, – командует Кармалита помрежу.
Помреж записывает.
– Вот, – продолжает Герман, – выложить их побольше и подлинней, сколько у нас каскадеров?
– Двадцать, Алексей Юрьевич, – докладывает второй режиссер, переглянувшись с продюсером, который просил не больше пятнадцати.
– Ну, двадцать, я думаю, маловато, давайте человек сорок–сорок пять положим.
– Оксана, пиши, Витя – слышал?
Продюсер кивает и бурчит что-то невнятное.
– Так, – Герман указывает палкой, – значит, дорога трупов, а в конце голый человек, моржа надо позвать, есть в Чехии моржи?
– Есть, это тоже будет каскадер.
– Ну хорошо, и парочку на дубль. Вот, он голый здесь будет лежать, голый и обосранный, как младенец, и к нему подбежит мальчик, ковырнет палочкой, мальчик приехал?
– Да, приехал, репетирует!
– Хорошо, ковырнет палочкой, а рядом огромные сапоги по колено в грязи пройдут. Руки поднимут мальчика и перенесут на мостик. Он побежит по мосткам, а там, у поленницы, прислонясь, сидит монах, мальчик его тронет за плечо, и у монаха голова упадет в ручей и поплывет – монах есть?
– В смысле?
– Ну, чья голова отвалится.
– Как чья? Это же кукла, муляж.
– Я хочу посмотреть, как у него отваливается голова, покажите.
– Нам нужно полчаса, чтобы все подготовить, – докладывают чехи.
– А что там готовить, просто голова должна упасть в ручей, и все.
– Это не просто, Алексей Юрьевич, это спецэффект.
– Да, ну покажите мне этот спецэффект.
Прибегают реквизиторы, сажают безглавое тело в костюме монаха, гримеры приносят голову, предупреждают:
– Только аккуратнее – это очень дорогой муляж.
Пиротехник закладывает в шею манекена заряд, прикрывает сверху куском кровящей свинины и, вставив две шпильки, насаживает голову.
– Мы готовы.
– Показывайте, только приведите мальчика.
Приходит мальчик, трогает монаха за плечо, раздается взрыв, и в шлейфе огня и дыма голова улетает за стену замка. У ног Германа шмякается кусок свинины.
– Простите, немного не рассчитали.
– Да, вижу, – вздыхает Герман. – А не лучше ли просто приставить и толкнуть?
Обалдевшие чехи тупо смотрят на режиссера. Этот трюк был заявлен как спецэффект, а спецэффект – это спецэффект, это нельзя "просто"…
Герман засопел:
– Они что, не поняли меня?
– Поняли, поняли, Алексей Юрьевич.
Бригаду спецэффектов быстро уводят.
– Хорошо, пойдем дальше. А впрочем, это все. Юрка, готовь кадр. Валера, снимите на видео, я в вагончике подожду.
И Герман уходит. На неделю. Потому что неделю мы не можем снять этот кадр. По четыре раза на дню солнце сменяется снегом, потом заходится дождь, тучи накрывают замок внезапной тьмой, снова пробивает солнце – эта неделя кажется бесконечным годом с беспорядочной сменой времен, а Герман все сидит в своем вагончике.
– Что я делаю не так, что? – недоумевает Валера.
Уже неделю сорок каскадеров в монашеских рясах ложатся в грязь, голый человек, облитый гримерным дерьмом, часами дрожит от холода, в сотый раз подбегает мальчик, ступает в огромных сапогах режиссер омского ТЮЗа Володя Рубанов, выдергивает мальчика, тот бежит, трогает за плечо убитого монаха, голова падает в ручей. Уже венгерский кран выдрессировался отслеживать всю эту панораму. Но прежней, той случайной выразительности японского кадра никак не добиться, все получается какая-то театральщина, музей мадам Тюссо, а не хроникальный ужас разыгравшейся здесь катастрофы.
– Не понимаю: и трупы настоящие, и грязь, и этот голый – все настоящее, а в кадре лажа.
– Может быть, Валера, в этом все и дело?
– В чем, Лёшка, в чем?
– Что все настоящее? Ведь в Ольгино на пробе лежали манекены – так?
– Ну?
– У них не было реальных форм. Они же почти плоские, так?
– Ну?
– И камера скользила по невнятной, несчитываемой фактуре, понимаешь? Не разобрать – что-то черное и страшное, долго-долго, а потом раз – и голый человек, и только тогда мы вникаем, что вся эта дорога, вся панорама – были трупы, понимаешь?
– Да, понимаю.
– Еще один нюанс: они в Ольгино на снегу лежали – черные на белом и припорошенные, – а здесь бурая грязь, с которой они сливаются. Если бы их в этой грязи утопить: кочки, кочки, бугорки, обрубки рук, меч в крови, снова кочки, кочки, а потом мы понимаем – трупы. Но на снегу все равно выразительнее. Было видно, что давно лежат, весь день шел мокрый снег, он их офактурил.
– И что ты предлагаешь?
– Класть вместо людей манекены и заказывать снеговые машины – должно быть белое в кадре, снег, покрывающий, прячущий весь случившийся кошмар.
Смена заканчивается, на завтра заказываем манекены. Весь день их обряжают в монашеские рясы, фактурят.
Кладем их в кадр.
Попало! Стало похоже, добились этого "не пойми что". Проходим краном, смотрим на мониторе – получается. Снегомашины дают пробу снега – в десятку! Красиво, если так можно сказать про дорогу, усеянную трупами.
Весь следующий день снимаем этот кадр на видео, дубль за дублем, совершенствуя движение крана, ракурс камеры… Получается.
Мы сняли хороший дубль. Я везу в гостиницу кассету, радостные идем на банкет.
Герман не стал смотреть. Группа осталась без оператора.

Снято и не снято
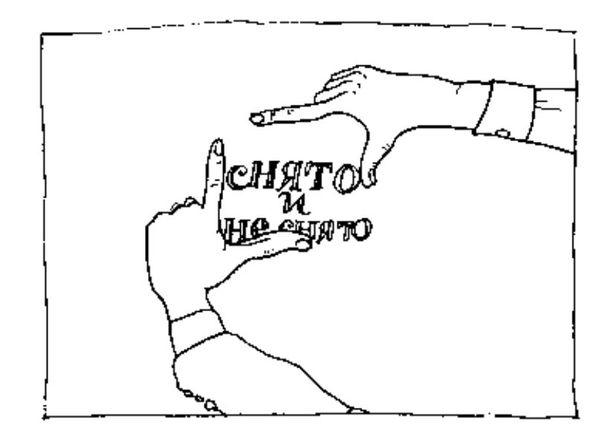
По случаю объявленных выходных мы с Оленем – Юрой Оленниковым – уехали в Прагу к моим друзьям Тане и Вадику.
Это была среда – день воров, и у Юры в кафе на Старомистской площади украли кошелек со всеми деньгами и документами. Мы пришли на выставку питерского художника Гаврилы Лубнина, сели за столиком визави, справа через проход позади нас компания балканцев, у одного из них на поводке большая собака. Балканец бросал ей куски со стола. Юра повесил куртку на спинку стула и пошел смотреть картины. А в куртке кошелек. Балканцы расплатились, двинули толпой к выходу. Я не мог не заметить, если бы кто-то из них сунул руку в Юркин карман – для этого он должен был бы наклониться и хоть на мгновение задержать движение, – я бы заметил. Ведь заметил же я, что один из них действительно, пройдя чуть вперед, стал завязывать шнурок, но у стула с курткой никого в этот момент не было, кроме…
– Áйда, фу, брзо дóйде до мéне! – крикнул балканец, и обнюхивавшая Юркину куртку овчарка побежала за хозяином.
Только потом я понял – собака ушла с кошельком.
Пока мы с Юрой бегали в поисках местной полиции, Герман с Ярмольником затеяли совещание – кого звать оператором. Питерские, ясное дело, не пойдут из солидарности с Валерой Мартыновым. Ярмольник предложил московского – Юрия Викторовича Клименко, тот когда-то снимал с Параджановым. Через два дня Клименко сидел в гостиничном ресторане. Рядом Ярмольник, напротив Герман. Эта мизансцена еще повторится совсем в другом качестве – в финале экспедиции.
Клименко начал снимать на третий день, но вовсе не то, что было запланировано. Он почти ничего не видел – острая глазная инфекция. Но Герману это ничуть не мешало. Первое, что сделал Юрий Викторович, – отказался от венгерского крана, повесил камеру на кран-стрелку и своими руками повел ее по извилистой рельсовой дороге – Герман ликовал и уже не вспоминал о "японском кадре", будто его и не было.
Никто не верил, что мы начнем снимать, никто не верил в Клименко, и за выходные в мучительном ощущении конца экспедиции группа раскисла.
Клименко репетировал с камерой, но все время "хватал" рельсы, по которым шла тележка, и немудрено – Валера не зря заказывал кран – ну не нести же камеру пятьдесят метров на руках!
Пошел снег, крупный, тихий, мягкий снег, и всем захотелось домой. Двор, залитый американской грязью, побелел на глазах.
Прибежала восторженная художница Лена Жукова:
– Ой, я шла сейчас по мосту – там так красиво! Весь наш Арканар снегом засыпало!
– Пойдем посмотрим, пока Юрий Викторович рельсы прячет.
И все пошли на мост.
Справа во рву живут два медведя, а слева художники выстроили "Предместье Арканара": натащили старых лодок, каких-то хибар, нарыли землянок с черными трубами – настоящий бомжатник, приют бедноты. По мосту носится козел Марик, он хочет бодаться, но сейчас всем не до него. Мы стоим и смотрим, как эти унылые лачуги засыпает снегом, медленным крупным снегом – красота!
– Зовите Клименко с камерой! – скомандовал Герман. – Пиротехник, сделайте дымок из нескольких труб. Юра, Лёша, возьмите пару статистов и какого-нибудь мальчика, дайте ему санки, живо, свет уходит.
Приволокли камеру, ставят на штативе, распределяем типажи – двое прохожих, баба с ведром, мальчишка вдалеке с санками ковыряет ногой снег. Тонкими струйками потянулся из труб дымок – такая русская, такая родная картинка. Откуда она в средневековом Арканаре, где всегда дождь и грязь, где не должно быть ни зелени, ни снега? А вот герой закрывает глаза и видит эту картину, ожившую благодаря случайному снегу в трепетное воспоминание о родных местах. Бьем дубль за дублем, пока не уходит свет.
– Снято, – командует Герман, – съемка окончена, всем спасибо.
Мы идем рядом, меня переполняет радость, да и все вокруг улыбаются и поздравляют друг друга с первым кадром.
– Знаешь, Лёшка, в кино бывает только два настроения: снято и не снято. Ради этого "снято" и все муки.
– А нужен нам в картине такой кадр, Алексей Юрьевич?
– Конечно, в нем же есть настроение, посмотри на них на всех, на наших – чуть не плачут от счастья. Случай – бог кинематографа, две недели, да что там – два года ждали, теперь – плывем!
