– Я тебе дам – выпрячь! Сперва мне верховую лошадь в телегу запрягают, потом приводят бешеного жеребца, которого снимать нельзя, теперь с этим вошкаются, гуманисты, блядь! Все стоят, и он пусть стоит. И я вот здесь сидеть буду и ждать, пока наш оператор – он, видите ли, не увидел, что декорация завалена, бред! – пока он дорогу построит.
– Ну хоть костры погасить можно?
– Нет, пусть горят! Злобин, еще слово – и ты больше не работаешь на картине, понял?
Я понял. И мне тоскливо. Можно бы обед объявить, давно пора. И дорогу как раз построят. Но поди сунься к нему сейчас с этим предложением! Иду через двор замка, за ворота: белый вол спит, привязанный к колышку, – зачем он здесь уже трое суток? У кейтеринга, нашей полевой кухни, прогуливаются водители – им до утра куковать, пока смена не кончится. Зачем-то вызванные каскадеры разлеглись на траве – спят. И мерин там, наверное, скучает. Он тяжеловоз, ему ходить надо, чтобы не накапливалось мышечное напряжение, а еще лучше – потаскать чего-нибудь; а он стоит там, бедолага. И я здесь стою и ничего сделать не могу – копится напряжение. Внизу под горой через голые ветки деревьев мерцают огни городка: прищуришься, и кажется, что ветки украшены гирляндами. Пора возвращаться, а то еще начнут 120 раций шипеть: "Злобин, Злобин!"
Рация по-чешски – высылачка. А мне прежде слышалось "веселачка" – забавное название. Но и "высылачка" – неплохо, все мы тут высланные.
Уже прошло обеденное время. А они все строят дорогу. Сидят солдаты у костров, стоит в шорах мерин, дремлет в телеге возница Вася Домрачев, и сидит рядом вскипающий на медленном огне глухой досады Леонид Исаакович Ярмольник. Ко мне трижды подходил Мартин, хотел увести коня. Я только молчал в ответ и сатанел от бессилия.
Через полтора часа камера едет проверять дорогу – замок стоит ровно, но теперь косо торчит телега, она-то – на покатом склоне.
Что делать? Настил строить – еще двое суток. О, бесконечная ночь оплошностей и накладок, какой-то ступор, и ни радости, ни улыбки, скорее бы уже утро, а там хоть трава не расти. Как мы будем снимать подъезд телеги, если дорога камеры стоит по горизонту, а двор на тридцать градусов к нему? А? Как?
Герман сопит и тихо выдавливает:
– Будем снимать без подъезда. Можно выровнять телегу?
– Можно.
Под заднее колесо телеги суют два бревна. Конь даже ухом не ведет, он спит в своих кожаных шорах, мальчик-каскадер держит повод, а в трех шагах перед ними греются у высокой жаровни сонные солдатики.
– Принесите еще доску, – просит Клименко.
Сонный рабочий принес две доски.
Одну бросил на землю, а другую стал крепить к панораме. И он не видел, что конь, вздрогнув от шлепка доски возле самого его уха, дернулся и переступил шаг вперед.
Этот конь не пугался взрывов, свиста пуль, криков – он не раз снимался в военных картинах, терпел удары бича, его не раз хлестали, он не боялся огня, дыма, резких движений – это был мирный конь. Но сейчас он спал, глаза закрыты шорами, и какой-то легкий хлопок, неожиданный рядом с его ухом, заставил его вздрогнуть и переступить. Телега, до того стоявшая на земле, теперь была поднята задними колесами на бревна и не покатилась за конем, а резко соскочила с бревен.
Рывок дышла, и обода острым шенкелем ударили коня в бока. И огромный мерин-битюг встал в свечу, подняв на поводе мальчишку-каскадера.
Лёню Ярмольника выбросило из телеги, а Вася Домрачев удержался за борта – его, мордвина, ходившего с ножом на медведя, так легко не испугаешь, но что мог сделать Вася Домрачев, когда поводья были не в его руках, да и что бы он сделал, держи он эти поводья? Потеряв равновесие, конь рухнул в пылающую жаровню, сидевшие рядом солдатики дали стрекача. Группа за рельсами замерла, Вася выпрыгнул из телеги, а я как идиот бросился, растопырив руки к массовке, бешено крича, чтобы все прижались к стенам, – выход со двора был далеко, нас замкнули глухие стены Хельфштина. Когда я оглянулся, услышав над собой страшное ржание – в небе висели два огромных копыта и где-то совсем в звездах – громадная конская голова; я юркнул в сторону, рядом, казалось, грохнулся танк. От ворот к месту бедствия бежали каскадеры и конники, пиротехник выплеснул в жаровню ведро воды, но было поздно – всполошенное спросонья животное, не очнувшись, металось вслепую, страшно ударяя копытами и тряся мордой, стараясь стряхнуть с узды мальчишку-каскадера, единственную помеху его страху и бешенству.
И вот мальчишка упал и покатился, а конь, казалось, хотел его растоптать, вслепую бил копытом, парень едва успевал уворачиваться, выкручиваясь к стене. Вжавшись в угол, он замер и, закрыв голову руками, ткнулся ничком.
Огромное копыто ударило ему в спину, за воплями не слышалось хруста.
Подоспели конники, обрезали упряжь, отцепили телегу, стали гладить коня – никто не кричал, повели под уздцы вон со двора, а каскадеры полукругом обступили мальчишку, тот не шевелился. На спине под задранной рубашкой зиял красный след копыта. Уже въезжала в ворота, мигая огнями, но без сирены беззвучная "скорая". Мальчика аккуратно переложили на носилки и понесли к машине, с носилок безвольно свисала рука, он не стонал.
Я подошел к Иржи Кубе:
– Он жив, Иржи?
– Все в порядке – это уже не ваше дело.
Я объявил обед – лучшее, что в этой ситуации можно было сделать.
Удалялись вниз по горе мелькающие огни "скорой", у кейтеринга толпилась за едой группа, белый вол у ворот жевал сено.
Ели молча, прячась каждый в свою тарелку. Вдруг раздался по рациям голос Германа:
– Прошу прощения, должен вам сообщить, что с каскадером все в порядке, мне позвонили из больницы, так что после обеда мы продолжим съемку.
Все разом отключили рации – никто больше не хотел его слышать и не верил ему.
А я не отключил, мне стало все равно. Я никогда не боялся ни взрывов, ни криков, ни его гнева, но этот тихий шлепок доски по камню – он все оборвал во мне. Вот так.
Еще через две смены под утро мы снимаем очень красивый кадр: посреди двора чадит костерок, а вдоль частокола в рассветном молоке мужик ведет белого вола. Белое на белом.
– Есть настроение в этом кадре, правда? – вздыхает Алексей Юрьевич.
– Да, наверное, – безразлично отвечаю я.
Через два часа мы с Иржи едем в Прагу.
– Лёша, а где был Герман, когда все это случилось?
– Не помню, может быть, хотел включить камеру и снять этот кошмар – с него станется. Но знаешь, болит не это, а как будто я во всем виноват, я – командир площадки.
Мы плавно обгоняем по встречке вереницу машин, снова пустое до горизонта шоссе.
– А что с мальчиком, Иржи?
– Ты не поверишь: врачи сказали, что его надо просто помыть – ни переломов, ни даже ушиба, завтра его выписывают к любимой девушке под крыло.
– Значит, Герман не обманул?
– Наверное, только тогда еще никто ничего не знал. Он, видимо, очень хотел, чтобы все обошлось.
На спидометре – 210.
Я стал спокойным, как Иржи.

Аутодафе
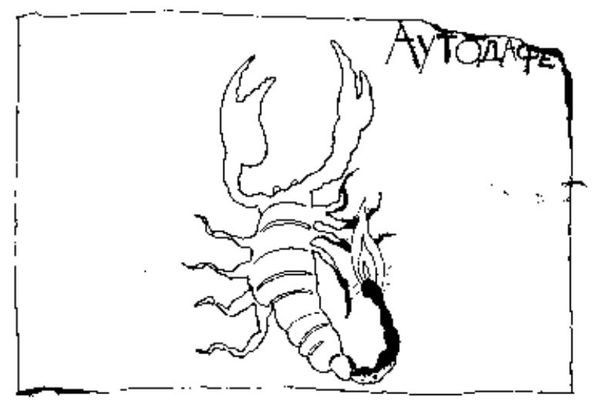
Утро на съемочной площадке начинается с чашки кофе. Это психологически сближает группу и вносит элемент уюта, что немаловажно в большой сложной работе, особенно на четвертом месяце экспедиции. И вовсе небезразлично, нальешь ты себе этот кофе из бачка, отстояв в долгой очереди, или тебе его поднесет бодро улыбающаяся белокурая девушка с изящной татуировкой на загорелом плече. Она успевает освежить этим утренним приветом и радушием всю съемочную группу: режиссеров, администрацию, глав цехов, чьи номера раций начинаются на единицу или помечены кусочком красного скотча, – работа этих людей особенно нервная и напряженная, от их настроя зависит общая атмосфера процесса.
Кейтеринг стоит на поле за стенами замка. Там дети каскадеров выгуливают не занятых в съемках коз и собак, блеют овцы, квохчут слепицы, так по-чешски зовутся куры, – все напоминает деревню, куда хочется, а мы прикованы к площадке, к неаппетитной средневековой кинореальности.
Но как только перерыв, приходит эта красивая бодрая девушка с подносом сэндвичей и терпким кофе. За обедом всем сразу без долгих очередей достается еда, успеваем не только поесть, но и отдохнуть, кто – прогуливаясь, кто – улегшись на траве под приветливым чешским небом. С возрастающей жарой появляются мороженое и холодный лимонад. Она приходит уже не одна: красавцы-каскадеры тащат следом подносы и ящики с питьем. Все влюблены в девушку-кейтеринку, заражены ее здоровьем, белозубой улыбкой и радостью осчастливливать нас.
Эта бытовая ерунда, воодушевляя многих, совершенно не касалась Германа. Он мучительно и трудно шел от кадра к кадру, от сцены к сцене, и Леонид Ярмольник, понятное дело, за ним. Порой казалось, они уже извели друг друга и вот-вот грохнет скандал. Мы с Юрой Оленниковым принюхивались к неотвратимо собиравшимся грозовым тучкам и ощущали нешуточную турбулентность – лайнер трясло, экипаж ждал катастрофы, над Чехией нарастал зной.
Накануне Герман снял центральный кадр картины: перелом в душе героя. Румата видит горящие костры – монахи жгут еретиков, его друзей. На площади перед дворцом огромная толпа, а вокруг орудия пыток, казни, все залито кровью. Герман долго искал, как этот момент выразить визуально, пластически, что должно произойти?
Румата должен закричать? Броситься душить хохочущего рядом человека? Плюнуть в лицо проходящему мимо генералу Черного ордена или кинуться с мечами в толпу?
Нет, все мелко, все не то, все выражает скорее истерику, срыв, позу, а не решительную перемену персонажа. Герман перечитывал и перечитывал сценарий – бесполезно, он знает сценарий наизусть, в сценарии ответа нет.
Каждой клеточкой он чувствовал, что невозможно, немыслимо это место пропустить, потому что оно пиковое, решающее в картине. Румата проходит главное испытание, он знает, что способен повлиять на ситуацию, вмешаться в нее, победить, – и не делает этого. Прежде он вмешивался, по мелочам: кому-то помогал, кого-то запугивал, офицеру у ворот замка даже нос сломал, но прежде было не то. Теперь влияние на ситуацию непременно вступит в противоречие со свободной волей этих инопланетных недолюдков. Расклад очевиден, и надо решиться на страшный выбор – либо проиграть с утаенным главным козырем на руках, либо обречь всех гибели – стать в их глазах богом.
Можно вмешаться, но вмешаться нельзя. В Румате что-то надорвалось. Звук лопнувшей струны Чехова, крик Алёши Карамазова: "Расстрелять!" – когда Иван рассказывает о помещике, затравившем ребенка сворой борзых. Как, в каком жесте или поступке это выражается?
Герман уже дважды всех увольнял и возвращал, трижды во всеуслышание костерил чехов за то, что они чехи, четырежды болел, по три раза на дню собирался улетать в Ленинград, забыв, что такого города больше нет на карте; и все это за одну неделю, которую он пролежал на правом боку, не смыкая глаз, и еще за два дня, которые он пролежал на левом. Рядом стояла рация: площадка вовсю работала, и он это слышал. Оленников репетировал с Леонидом Исааковичем. Репетировал неизвестно что – то, чего еще не придумал Герман. А я командовал разного рода передвижениями, связанными с синхронизацией:
– Так, внимание. Условно внимание! Как бы камера! Как бы начали!
– Как бы костры!
– Проститутки пошли!
– Монах, повернулся!
– Как будто запускайте собачку, пусть как бы ест мертвечину.
– Телега пошла, так, теперь как бы сломалась, осела, хорошо!
Герман все это слышал. Десяток его учеников-стажеров сновали по толпе в триста человек, добиваясь безусловной правды поведения каждого, кого из тысяч лиц выискивали среди чехов, а многих привезли из России – "золотая" массовка, типаж к типажу; и снуют стажеры, и добиваются правды:
– Так, жуй по-настоящему, Ваня, зря мы тебя сюда тащили, что ли?
– Переводчица Лена! Скажите Вацеку, что сморкаться надо только тогда, когда Марек плюнет на спину Зденеку…
Герман все это слышал по рации.
И время от времени он "являлся" нам.
Уже пятый день все готово к репетиции, Юрий Владимирович Оленников зовет Леонида Исааковича по рации. Леонид Исаакович приходит в игровых штанах и белой майке – без мечей, нагрудника, наплечника, перчатки, арбалета, трубки, фляги, кинжала – одним словом, репетиционный костюм Ярмольника на двадцать кг легче съемочного.
Юрий Владимирович и Леонид Исаакович пожимают друг другу руки и начинают репетировать, то есть, повторив текст, обсуждают что-то несущественное, чтобы не повредить уже давно заученному и вбитому в кожу куску роли. Тут по рации вопрос реквизитора, Олега Юдина:
– Юра, мечи и сбрую Ярмольнику нести?
Юрий Владимирович и Леонид Исаакович дружелюбно глядят друг на друга.
– Дай-ка мне рацию, – говорит, улыбаясь, Леонид Исаакович.
Юрий Владимирович охотно отдает свою рацию.
– Алё, Олежка, ты меня слышишь, это Ярмольник говорит.
– Да, слышу, Леонид Исаакович, доброе утро!
– Доброе утро, Олежка, пошел ты на х.. со своими мечами, понял!
– Понял, Леонид Исаакович, но я не вас, я Юрия Владимировича спрашивал, вдруг ему надо для репетиции.
Леонид Исаакович вопросительно взглядывает на Юрия Владимировича:
– Юр, тебе надо, чтоб я с мечами?
– Ну что ты, Лёнечка.
Оба неожиданно переходят на еще более дружелюбное "ты", Ярмольник говорит в рацию:
– Олежка, слышишь, это Ярмольник!
– Да, слышу, Леонид Исаакович!
– Знаешь, что Юрий Владимирович сказал?
– Догадываюсь, Леонид Исаакович.
– Ну вот и молодец.
И в этот момент является Герман. Неуверенно хрюкает рация, он всегда путал, какие кнопки жать:
– Алё, Лёнечка, доброе утро, дорогой.
– Доброе утро, Алексей Юрьевич!
– Будь добр, Лёнечка, дорогой, передай, пожалуйста, если тебе не сложно, рацию Юрию Владимировичу Оленникову, алё, Юра?
– Да, Алексей Юрьевич, доброе утро!
– Юра, пожалуйста, попроси Леонида Исааковича репетировать в полном костюме и с оружием, иначе тело, понимаешь, привыкает к неправде, ладно, дорогой?
– Хорошо, Алексей Юрьевич.
– Спасибо, доброе утро, Олежка Юдин, ты меня слышишь?
– Да, Алексей Юрьевич, конечно, слышу, доброе утро.
– Доброе утро, Олег, неси мечи.
Потом я видел, как Ярмольник прижал Юдина к вагончику и, мне показалось, бил, но сам Олежка утверждал, что мне так только показалось, что просто они уточняли крепления и пряжки, коих множество на костюме, и Лёня с Олегом их все обсудил.
– Выключите рации, все! Все к чертовой матери выключите эти поганые рации, иначе я буду драться лично с каждым, и чехам это тоже переведите! Если он хочет что-то сказать артисту, пусть идет на площадку, а не лежит в номере, мне надоела эта радиорежиссура, поняли!
Ну и что нам было делать? Я объявлял перерыв, Герману отвечал, что Лёня все услышал, а Юра понял. Потом командовал:
– На время перерыва всем переключиться на другую волну!
– На какую?
– На любую.
И группа уходила куда-нибудь на волну пиротехников, а те врубали музыку, и являлась чудесная девушка-кейтеринка с бутербродами и кофе. А потом все включали рации, Леонид Исаакович слушал, что нового придумал Алексей Юрьевич, а Олег Юдин стоял позади со всей сбруей и мечами наготове, мало ли – захотят всерьез репетировать.
Мы с Леонидом Исааковичем дружили, говорили друг другу "ты" не панибратски, а уважительно, с достоинством.
Во-первых, во-вторых и в-третьих, Леонид Исаакович Ярмольник – профессионал. И меня покоряло, с каким простым мужеством и человеческим терпением он тянул свою актерскую лямку на этой труднейшей картине. Кто-то скажет: "А капризы?" Отвечаю раз и навсегда: капризов не было. Срывы, усталость, непонимание, досада – все было, капризов не было.
Оба, и Герман, и Ярмольник, понимали, что взялись за непосильную, чудовищно сложную задачу, и оба, терпя друг друга, старались ее решать. Они были в связке, все радости и крушения объяснялись этим. Остальное – не наше дело и не нам судить – картина покажет.
После недели общей муки и еще двух дней сверхмуки Герман вышел из комнаты. Сидел себе в ресторане отеля как ни в чем не бывало, обедал – с аппетитом, спокойно, будто не голодал все эти дни.
Я подошел поздороваться.
– Лёшка, присядь. А что думаешь, если Лёня, когда он видит костры с еретиками, от растерянности не заметит, что опирается руками о кровавый кол, и вдруг сделает вот так?