При этом мне запомнилось, что у Игоря Васильевича при этом не сходила с лица улыбка, но лицо слегка вытягивалось, становилось напряженным. Оппонент, как правило, горячился, оправдывался, в этом состоянии говорил много лишнего. Но Игорь Васильевич внимательно слушал, не перебивал. А потом опять обращался к нему: "Но как же быть, скажите?" И, в конце концов, тот соглашался, называл сроки и, главное, делал. Но это стоило дорого Игорю Васильевичу. С техническими работниками было проще. Авторитет Курчатова для всех был непререкаем, и мы выполняли все, что только можно было физически сделать".
Ефим Павлович Славский много лет провел рядом с Игорем Васильевичем. Кстати, именно Курчатов рекомендовал его на должность министра Средмаша. Почти 30 лет Славский занимал этот пост. Был освобожден от должности после Чернобыльской катастрофы. Но на то заседание Политбюро ЦК, где шло обсуждение, Ефим Павлович не поехал - не захотел.
Так случилось, я был тогда в его кабинете.
- Пусть снимают, - сказал он. - Жаль, что не дали доработать несколько месяцев - у меня было бы тридцать лет министром… Но так уж случилось… Да и плохо слышать стал… Замечаешь, что я прошу говорить погромче?
Мы беседовали о разном, обыденном, не связанном с работой министерства. И это было странным, потому что я всегда замечал, что Ефим Павлович полностью отдается своему делу и о другом даже думать не мог.
Потом он пригласил меня на заседание коллегии министерства, на котором он хотел попрощаться с коллегами.
Зал коллегии был переполнен. Люди стояли даже в проходах. Все ожидали, что Ефим Павлович будет говорить о том, что удалось сделать в отрасли за минувшее время. Ну а достижения, как известно, были велики и масштабны, и все они были связаны с работой Славского.
Но Ефим Павлович ни слова не сказал о них и о себе. Он вышел на трибуну, помолчал, а потом начал рассказывать об Игоре Васильевиче Курчатове. И в этот день мы поняли, насколько близок и дорог он был ему. Он говорил о Курчатове, будто тот был жив, а не ушел более четверти века назад. Впрочем, для Славского он оставался другом и соратником всегда.
Из воспоминаний Е.П. Славского:
"Самое замечательное в моей жизни - это работа с Курчатовым. Когда "кошки на душе скребли", - не заметить, он всегда веселый. Великий был оптимист, эрудит! Хрущев хотел сделать его президентом Академии наук. Игорь Васильевич отговаривался. И я говорил, что нельзя его загружать из-за здоровья, - несколько инсультов было уже.
Самоотверженным и отважным он был. Никакой черной и тяжелой работы, когда от нее успех общего дела зависел, не боялся. Надо было лично перепроверять облученные урановые блочки - перепроверял лично, своими руками. Когда на комбинате работали, со временем не считались вовсе. Спали два-три часа в сутки, нередко в производственных корпусах, - напряжение колоссальное. Народ - самоотверженный…
Все, что было с чудовищным перенапряжением сделано, всем верховодил Игорь Васильевич Курчатов. Он отдал делу всю свою жизнь, всю свою кипучую энергию, все свое обаяние. Именно под его руководством в такой кратчайший срок было создано и противопоставлено нашим недругам наше ракетно-ядерное могущество…"
26 июня 1953 года был арестован Лаврентий Берия.
В этот же день был подписан Указ Верховного Совета СССР "Об образовании министерства среднего машиностроения СССР".
А вскоре к Игорю Васильевичу Курчатову пришли из ЦК партии с требованием подтвердить, что Берия был врагом народа и английским шпионом.
Курчатов остался верен себе: ходоков он выгнал, сказал: "Не было бы Берии - не было бы бомбы".
"Плутоний в женских ладонях…"
В Озерске есть драматический театр. Название символичное: "Наш дом". Одновременно со строительством реактора строился и театр. Так было во всех городах Средмаша, в том числе и здесь. Не хватало еще жилья, не было общежитий, негде было жить, а тем не менее театр
строился. И это была своя культурная политика. С этим театром у меня связана одна история. Дело в том, что здесь была поставлена моя пьеса "Невесты Чернобыля", рассказывающая о судьбе женщин, переживших ту трагедию. Спектакль интересный, актерская труппа сыграла его блестяще. Зал был переполнен. Эта премьера напомнила мне одну ситуацию, которая случилась далеко отсюда, в Японии. В Хиросиме тоже был поставлен мой спектакль "Саркофаг". Огромный зал, две тысячи человек. Спектакль кончается, меня выталкивают на сцену, и я вдруг вижу, что актеры плачут. Я смотрю в зал, зрители первых рядов тоже плачут. А потом овация… Оказалось, что половина актеров театра погибли во время бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Поэтому так - слезами - в Японии встретили тот спектакль.
Нечто подобное произошло и здесь. Пьеса тяжелая, рассказывающая о судьбе женщин, которые не могли выйти замуж после Чернобыльской катастрофы. И понятно, почему… Спектакль получился, но здесь он шел недолго, потому что оказалось, что его воспринимают очень
болезненно те женщины, которые поработали на "Маяке". В 1949 году, когда создавалось радиохимическое производство, сюдаприезжало много девчонок-химиков. Они заканчивали химические факультеты университетов, ремесленные училища, и они приезжали сюда работать на очень опасном производстве. Тогда мужчин не было. Прошла война, и высшее образование получали в основном женщины, и именно на их плечи, на их руки легла вся трудность создания первого радиохимического завода в нашей стране. Впрочем, об этом очень хорошо рассказывает очевидец тех событий Евгений Ильич Микерин:
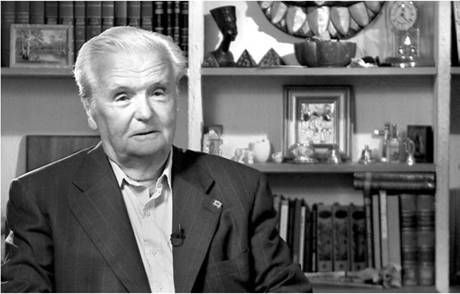
- Мы работали из расчета один рентген в сутки. Я пользуюсь старой терминологией - она более понятна и привычна, чем нынешняя. За смену - рентген, и не больше! Таковы были правила и "боевые" нормы. В общем, как на войне. Ядерной, конечно… Если ты получаешь больше рентгена, значит, нарушил правила радиационной безопасности. Если раз нарушил - предупреждение, другой раз - еще одно, а потом и премии лишали… А как не нарушать, если почти каждый день что-то случалось?!
- Простая арифметика: 150 рабочих дней и лучевая болезнь гарантирована?
- В принципе, да. Правда, лучевая - не всегда. Даже операторы, которые не принимали участия в ликвидации аварий, так сказать "в спокойной обстановке" получали 0,6–0,8 рентгена за рабочую смену. Ну а если случался разлив продукта, то тут уже было не до расчетов получаемых доз - главное, любой ценой ликвидировать аварию.
- Не преувеличиваете?
- Нисколько!
- А защита?
- Да, была в достаточном количестве. Это резиновые сапоги и перчатки. К счастью, потом появились фильтры Петрянова, они защищали дыхательные пути. А прежде даже марлевых повязок не хватало…
- И многие прошли этот атомный ад?
- В смене 15 человек. Работали круглосуточно и без выходных. Считайте сами… Я брал кассету, клал ее в сейф - никто его открывать не имел права, так как там хранились совсекретные материалы, а в конце смены доставал кассету и сдавал ее на проверку. "Свой" рентген там всегда был.
- Простите за жестокий вопрос: почему вы до сих пор живы? Сколько вам лет и сколько вы набрали тогда этих самых рентген?
- Мне 84 года. Официально у меня 283 рентгена. По крайней мере, еще столько же я получил "сверхплана".
- Смертельная доза 400 рентген?
- Если ее получить сразу…
- Вы входите в ту когорту атомщиков, которые постепенно набирали сотни рентген и даже тысячи. Как Ефим Павлович Славский, как некоторые другие…
- Да, я жив. Но мои коллеги, с которыми я начинал работать, и почти все те, которые пришли мне на смену, давно уже ушли из жизни… Все происходящее я объясняю несколькими причинами. Во-первых, теми, кто нами управляет сверху…
- Правительством?
- Нет, теми, кто выше его… В шутку я объясняю так: 600 рентген, которые я получил, выжгли во мне все вредоносные бактерии и микробы, которые были во мне. Это и дало возможность дожить до сегодняшнего дня… На радиохимическом, реакторном и металлургическом заводах появилось несколько тысяч профессиональных больных. Половина из них не дожили до пенсии, она уже не понадобилась им. Рентгены, которые получали работники, вынуждали медиков выводить работников из основных цехов через полтора-два года. Я проработал там три с половиной года.
- Почему?
- Некем было заменить. Постоянно не хватало кадров, потому что непрерывно всех заменяли. Техники, операторы, прибористы, ремонтники, электрики, - всех надо было выводить в "чистую зону". Однажды мне сообщили, что к нам направлена группа молодых техников. Их надо было принять и распределить по рабочим местам. Я пришел на щит управления, и там вижу испуганные глаза двух десятков девушек. Им было по 18 лет. Все одеты в ношеные комбинезоны, не по росту. И я подумал: до чего же мы дошли, если таких девчат присылают сюда?! До сих пор я встречаюсь с некоторыми из них, и мне тяжко смотреть им в глаза… Но я вынужден был распределить их по сменам, по рабочим местам
- иного выхода у меня не было тогда…
- А как случилась встреча с Берией?
- Он наезжал довольно часто. Однажды - это был 52-й год, и я работал уже начальником смены, а она длилась с 8 вечера идо 2 ночи - мне позвонили и сказали, что в цехе будут высокие гости, а потому я должен находиться на такой-то отметке и ждать. Они пройдут мимо, ни о чем их не спрашивать, а если зададут вопросы, то ответить. Они шли по 10-й отметке основного цеха. Шла разгрузка облученного топлива и первичное растворение урановых блочков. Идут три человека. Новый директор радиохимического завода Демьянович. Очень крупный мужчина, жесткий, подчас даже беспощадный. Он плохо знал технологию, но его назначили для наведения порядка на заводе, и это он довольно успешно делал. Шел кто-то из начальства Первого Главного управления, а в середине маленький человек в чепчике и пенсне. Позади виднелся охранник. Я узнал Берию, поздоровался. Представился, как положено на оборонном предприятии, мол, начальник смены, выполняем задание по плану, замечаний по работе персонала нет. Вдруг Берия говорит, что ему в соседнем цехе объясняли, что такой-то продукт поступает туда, затем другой продукт идет в какие-то банки и колонны, а следующий продукт передается в этот цех. И говорит: "Не можешь ли ты мне по рабоче-крестьянски объяснить, что тут делается и как все происходит". Я объяснил ему, что в соседнем цехе, где он был, урановые блоки растворяются, затем проходит двукратное осаждение, отделяется примерно 99 процентов активности, остатки с плутонием идут в 3-й цех. Здесь используется та же технология, но теперь плутоний восстанавливается, остается в растворе, а уран переходит в остаток, то есть происходит разделение урана и плутония. Затем уран растворяется и идет на получение конечного продукта, а плутоний идет своим путем, в конечном пути в виде раствора передается на химико-металлургический завод. Мой рассказ занял всего несколько минут. Я не использовал специальных терминов, а плутоний называл плутонием, уран - ураном, что, конечно же, делать тогда категорически запрещалось. Мы использовали "птичий язык", что, кстати, очень мешало работе, так как не всегда можно было понять, о чем идет речь. Берия говорит: "Встречаю первого человека, который четко и ясно все объяснил, как именно производится этот процесс. Спасибо тебе!" Он пожал мне руку и пошел дальше… Через два дня меня вызвали в "31-й дом", где располагалась служба безопасности, Сам начальник начал разговаривать со мной. Сначала поблагодарил, мол, Берия остался доволен моим докладом, а затем форменный допрос. Во-первых, откуда я знаю так хорошо технологию процессу в других цехах? Я ответил, что хоть я и молодой инженер, но обязан это знать, иначе не могу хорошо работать. "Вырвать" какой-то участок из процесса просто невозможно. Кажется, такое объяснение его удовлетворило. Ну а второй вопрос был неожиданным. Он спросил: "Почему вы нарушили секретность и продукты называли своими именами?" Он не произнес ни "плутоний", "ни уран", но я понял, что он имел в виду. Я объяснил, что иначе Лаврентий Павлович не смог бы понять суть технологии, к тому же я убежден, что ограничения по секретности к нему не имеют отношения… На том разговор наш кончился. Меня вновь вызвали через несколько дней, и начальник сказал, что претензий ко мне нет (он, видимо, проконсультировался с Москвой), но чтобы впредь слова "уран" и "плутоний" я не употреблял…
Берия наезжал на "Базу-10", когда срывались все сроки строительства. Пуск реактора, а следовательно, и сроки создания атомной бомбы постоянно отодвигались, а Сталин требовал ее все настойчивей: он уже не мог разговаривать с Черчиллем и американским президентом на равных. А угроза атомной атаки на СССР постоянно нарастала, и руководство страны это чувствовало.
Летом 1947 года Берия впервые приезжает в Челябинск-40. Дела обстоят из рук вон плохо. Сталину бомба обещана к концу этого года, но сроки строительства срываются, а потому надо принимать экстренные меры.
Ветераны вспоминали:
"Берия по промплощадке ездил в бронированном семитонном трофейном "кадиллаке" в сопровождении охраны… Говорил он негромко, с акцентом, не кричал, больше молча слушал пояснения специалистов. Большой свиты вокруг него не было. Далеко не все могли выдержать его пронзительный взгляд. Даже у Курчатова, когда Берия выражал недовольство чем-либо, начинали мелко дрожать руки".
Берия снял прежнего директора, а новым назначил Ефима Павловича Славского.
Десант ученых
В январе 1949 года специальная комиссия нагрянула к Главному конструктору Юлию Борисовичу Харитону, чтобы проверить, какие именно документы он хранит в своем личном сейфе. Речь шла не просто о документах под грифом "сов. секретно", а тех, что относились к "Особой папке", то есть "особо секретные".
Членов комиссии интересовали в первую очередь разведматериалы. Очевидно, пришла информация из Америки, что есть утечка данных по "Манхэттенскому проекту", и спецслужбы США начали проверку всех причастных к нему.
В сейфе Ю.Б. Харитона 26 папок по конструкциям первых американских атомных бомб. Материалы были получены разведкой.
Как ни странно, но академик Харитон держал эти документы еще шесть лет, и только в апреле 57-го года он отправил их в Москву. В Государственном архиве России они хранятся до нынешнего дня.
Юлий Борисович тщательно сравнивал данные, которые были получены разведкой и теми, что представляли его сотрудники. Он проверял каждый этап работы настолько скрупулезно, что порой это вызывало удивление. Но именно такой подход к делу обеспечил успех.
Впрочем, академик Лев Петрович Феоктистов подметил однажды очень точно: "Вы можете копировать других, можете предаваться собственным теоретическим мечтаниям, но пока у вас нет 6–8 кг плутония, мечты останутся мечтами".
К лету 1949 года первые сотни грамм плутония начали появляться, и физики из Арзамаса-16 перебазировались на комбинат № 817. Здесь им были созданы особые условия. Они работали в специальном здании, далеко от цехов. Их расположили так, чтобы никто не мог догадаться, чем именно они занимаются. Охрана тоже была специальной, она состояла только из офицеров.
Вместе с экспериментаторами приехали и теоретики - Зельдович, Франк-Каменецкий, Дмитриев, Гаврилов и другие. Они сразу же обсчитывали все результаты экспериментов.
Будущие академики А.И. Шальников и А.П. Александров отрабатывали покрытие плутония слоем никеля. Г.Н. Флеров и Ю.С. Замятин исследовали оба полушария. Вместе их масса должна быть чуть меньше критической. И только после подрыва обычной взрывчатки "шарик" должен сжаться, и тогда произойдет цепная реакция. Эти эксперименты были очень опасны, а потому ученым отвели домик в лесу. Их называли "лесниками", даже после того, как две полусферы были приняты специальной комиссией.
Всю работу по технологии изготовления деталей для первой атомной бомбы курировал Харитон. Он давал заключение о пригодности той или иной детали для заряда. 5 августа 1949 года Акт о приемке полусфер из плутония подписали Ю.Б. Харитон, А.А. Бочвар и В.Г. Кузнецов.
8 августа все детали из плутония были отправлены литерным поездом в КБ-11. В ночь с 10 на 11 августа была проведена контрольная сборка бомбы.
21 августа заряд и три нейтронных запала были доставлены специальным поездом на полигон. 29 августа проведено испытание первой атомной бомбы.
5 ноября 1949 года на комбинате № 817 были изготовлены две плутониевые полусферы. Так начал формироваться наш ядерный арсенал.
"Банка вечного хранения"
Среди документов "Атомного проекта СССР" хранится тот единственный, который приоткрывает тайну создания комплекса "С". Это протокол совещания у Б.Л. Ванникова, посвященный строительству хранилища радиоактивных отходов.
Это было грандиозное сооружение. Резервуары из нержавеющей стали помещались в каньон с бетонными стенами. Сверху они были накрыты железобетонной плитой.
"Объект "С" предназначался для временного хранения радиоактивных жидкостей…
Прежде чем рассказать о трагедии, случившейся в сентябре 1957 года, вернемся на пульт управления первым реактором.
Во время пусковых работ Курчатов написал знаменитую фразу: "Предупреждаю, аппарат никогда ни в коем случае нельзя оставлять без воды".
Эта заповедь всегда доминировала в атомной энергетике. Она была нарушена лишь однажды, здесь, на "Маяке". И случилось это в сентябре 1957 года. Одна из банок осталась без охлаждения, и произошел гигантский взрыв. Достаточно сказать, что огромная бетонная плита весом почти в 160 тонн была поднята в воздух на высоту несколько десятков метров…
Когда вижу эту запись, сделанную рукой Игоря Васильевича Курчатова, я всегда вспоминаю этот взрыв…
Мы встретились с теми ветеранами "Маяка", кто непосредственно участвовал в ликвидации той аварии. Это Евгений Ильич Микерин и Евгений Георгиевич Рыжков.
Рыжков. Я пришел на "Маяк" 13 сентября 1957 года. За две недели до аварии.