Через несколько лет, в автобиографии 1924 г., Булгаков напишет: "Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали". Можно думать, что город этот Грозный, в который ездил Булгаков уже из Владикавказа и где 13(26) ноября 1919 г. появилась в газете "Грозный" его первая публикация фельетон (в старом значении слова) "Грядущие перспективы".
"В это время он уже писал - рассказы, кажется… Потом госпиталь расформировали, заплатили жалованье - "ленточками". Такие деньги были - кремовое поле, голубая лента. Эти деньги никто не брал, только в одной лавке - и я на них скупала балыки… Было ясно, что белые скоро уйдут, но они еще не собирались. Генеральша позвала нас к себе жить - в свободную комнату; там было удобно. В это время Михаил послал меня в Пятигорск - по какому-то делу. Поезда не ходили, я вернулась. Но он во что бы то ни стало хотел добраться туда. Как раз на другой день пошел поезд. Зимой 1920 г. он съездил в Пятигорск - на сутки. Вернулся: "Кажется, я заболел". Снял рубашку, вижу: насекомое. На другой день - головная боль, температура сорок. Приходил очень хороший местный врач, потом главный врач госпиталя. Он сказал: "Если будем отступать - ему нельзя ехать". Однажды утром я вышла - и вижу, что город пуст. Главврач тоже уехал. А местный остался. Я бегала к нему ночью, когда Михаил совсем умирал, закатывал глаза. В это время - между белыми и советской властью - в городе были грабежи, ночью ходить было страшно… Во время болезни у него были дикие боли, беспамятство… Когда выздоровел, немного окреп - пошел в подотдел. Там был уже Юрий Слезкин заведовал подотделом. - М. Ч.). Организовался русский театр. Слезкин предложил Булгакову делать вступительное слово перед спектаклями. А я служила там статисткой. В это время дом генеральши забрали под детский сад, сама она уехала, нам дали неплохую комнату около театра - Слепцовская, 9… Да, письменного стола там действительно не было - не покупать же было! Театр денег не платил - только выдавали постное масло и огурцы… Подотдел ему тоже не платил… Только за пьесы платили… Когда "Братья Турбины" (Т. Н. произносит "Турбины". - М. Ч.) поставили - на банкет все деньги ушли… Жили на мою золотую цепь - отрубали по куску и продавали…
Летом 1921 года театр закрылся, артисты разъехались, подотдел искусств расформировался - Слезкин, который им руководил, уехал в Москву. И делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис - разведать почву. Потом приехала я. Ничего не выходило… Мы продали обручальные кольца - сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в свое время в Киеве у Маршака - это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: "Михаил Булгаков" - и дата - видимо, свадьбы, а на его: "Татьяна Булгакова". Потом, в Москве, он купил мне кольцо золотое - золотой ободок вокруг круглого хризопраза зеленого… Когда приехали в Батум, я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой, она указала ему комнату. Мы пришли, я тут же купила букет магнолий - я впервые их видела - и поставила в комнату. Легли спать - и я проснулась от безумной головной боли… Мы жили там месяца два, он пытался писать для газет, но у него ничего не брали. О судьбе своих младших братьев он тогда еще ничего не знал. Помню, как он сидел, писал… По-моему, "Записки на манжетах" он стал писать именно в Батуме. Когда он обычно работал? В земстве писал ночами… в Киеве писал вечерами, после приема. Во Владикавказе после возвратного тифа сказал: "С медициной покончено". Там ему удавалось писать днем, а в Москве уже стал все время писать ночами. Очень много теплоходов шло в Константинополь. "Знаешь, может, мне удастся уехать…" Вел с кем-то переговоры, хотел, чтобы его спрятали в трюме, что ли…
…Потом Михаил сказал, чтоб я ехала в Москву и ждала от него известий. "Где бы я ни оказался, я тебя вызову, как всегда вызывал". Но я была уверена, что мы расстаемся навсегда, плакала. Я ехала в Москву по командировке театра - как актриса за своим гардеробом. Но по железной дороге было уехать нельзя, только морем. Мы продали кожаный баул, мне отец купил его в Берлине, на эти деньги я поехала. Михаил посадил меня на пароход, который шел в Одессу. Была остановка в Феодосии, я пошла искать по адресу сестру Михаила, но ее там уже не было. В Одессе около вокзала была гостиница, бывший монастырь. Я продала свои платья на базаре, никак не могла сесть на поезд, день за днем. Потом один молодой человек сказал: "Я вас посажу!" Поднял меня и просунул в окно. А вещи мои - круглая картонка и тючок с бельем - остались у него. Я приехала в Киев, пришла к матери Михаила. Там наши вещи тоже пропали, Варвара Михайловна сказала: "Ничего нет, я могу тебе дать только подушку"…
В начале сентября Т. Н. приехала в Москву; приятель и коллега Булгакова врач Н. Л. Гладыревский помог ей устроиться в общежитие медиков на Большой Пироговской - в одной комнате с уборщицей.
"Когда я приехала в Москву, я понимала, что с Мишей я больше не увижусь и что мне надо разыскать мать и сестру. Не знаю, что было бы со мной, если бы не Коля Гладыревский… Потом оказалось, что мама с сестрой в Великих Луках".
Сестра Булгакова Н. А. Земская (1893–1971) сохранила письма Т. Н. того времени. 11 сентября Т. Н. писала ей в Киев: "С каждым днем настроение у меня падает и я с ужасом думаю о дальнейшем" (т. е. о предстоящей зиме. - М. Ч.). 18 сентября: "Я все еще живу в общежитии у Коли… Я послала Мише телеграмму, что хочу возвращаться, не знаю, что он ответит. Костя (двоюродный брат писателя К. П. Булгаков. - М. Ч.) меня все время пилит, чтобы я уезжала".
Т. Н. не знала, что Булгаков покинул Батум и 17 сентября добрался до Киева. Через несколько дней он был в Москве.
Рассказ Т. Н. о первых годах московской жизни Булгакова в доме на Б. Садовой, где жену его называли "быстрая дамочка" ("Я всегда бежала на каблучках - то на Смоленский рынок что-нибудь выменивать, то еще куда-то"), где в 1924 г. "никто не верил в домоуправлении, что мы развелись - не было скандалов!" - тема особая. Елена Сергеевна Булгакова, которой суждено было стать вдовой писателя, рассказывала, что Булгаков "никогда не сказал о Тасе ни одного дурного слова". В 1940 году мучительно умиравший Булгаков послал свою младшую сестру Лелю за Татьяной Николаевной - он хотел попросить у нее перед смертью прощения. Но Татьяны Николаевны уже не было в Москве.
В. Катаев
Встречи с Булгаковым
Булгаков был удивительный писатель. И я, которому довелось почти ежедневно с ним встречаться в самые ранние годы нашей творческой жизни, в первые годы Советской власти, когда мы работали в "Гудке", не переставал удивляться блестящему таланту Булгакова.
Литературная судьба Булгакова распадается на несколько периодов. Сначала это был уже сложившийся сатирический писатель, который в силу обстоятельств должен был работать в газете как рядовой фельетонист, а потом к нему пришла большая слава как к автору повестей и драматургу.
Мне бы хотелось остановиться на том небольшом периоде жизни, очень колоритном, который был связан для меня не только с именем Булгакова, но с именем Олеши, с именами Ильфа и Петрова, Бабеля, Славина и многих других писателей.
Это были двадцатые годы. Бедствовали. Одевались во что попало. Булгаков, например, один раз появился в редакции в пижаме, поверх которой у него была надета старая потертая шуба.
И когда я через много лет это ему напомнил, он страшно обиделся и сказал: "Это неправда, никогда я не позволил бы себе поверх пижамы надевать шубу!"
Работая в "Гудке", Булгаков подписывал свои фельетоны, очень смешные и ядовитые, "Крахмальная манишка". Несколько лет назад этот псевдоним приписывали мне, и один булгаковский фельетон попал в собрание моих сочинений. Думали, что "Крахмальная манишка" - это я. Булгаков писал острые фельетоны на бытовые темы и с большим блеском разоблачал мещанство. Но был он художником уже гораздо выше этого своего газетного амплуа. Он был старше нас всех - его товарищей по газете, - и мы его воспринимали почти как старика. По характеру своему Булгаков был хороший семьянин. А мы были богемой. Он умел хорошо и организованно работать. В определенные часы он садился за стол и писал свои вещи, которые потом прославились. Нас он подкармливал, но не унижая, а придавал этому характер милой шалости. Он нас затаскивал к себе и говорил: "Ну, конечно, вы уже давно обедали, индейку, наверное, кушали, но, может быть, вы все-таки что-нибудь съедите?"
У Булгаковых всегда были щи хорошие, которые его милая жена нам наливала по полной тарелке, и мы с Олешей с удовольствием ели эти щи, и тут же, конечно, начинался пир остроумия. Олеша и Булгаков перекрывали друг друга фантазией. Тут же Булгаков иногда читал нам свои вещи - уже не фельетоны, а отрывки из романа. Помню, как в один прекрасный день он сказал нам: "Знаете что, товарищи, я пишу роман, и если вы не возражаете, прочту несколько страничек". И он прочитал нам несколько отрывков очень хорошо написанного, живого, яркого произведения, которое потом постепенно превратилось в роман "Белая гвардия". Из этого романа Художественный театр с автором сделал пьесу, много десятилетий считавшуюся шедевром актерского исполнения, режиссерской работы и которую страшно любила публика.
Появление Булгакова в Художественном театре - это тоже некая комическая новелла из эпохи нашей работы в "Гудке".
Представьте себе редакцию газеты - большую накуренную комнату, в которой 5, 6 или 10 небритых молодых людей, пишущих заметки, фельетоны, обрабатывающих письма с мест.
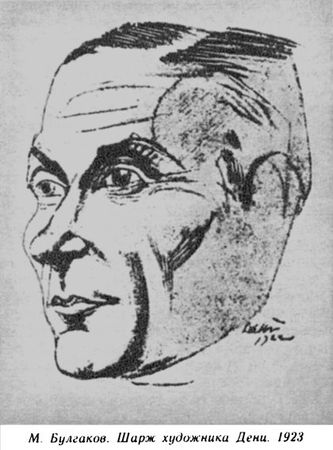
И вообразите себе, что вдруг выясняется, что один из них давно написал пьесу, и она принята и пойдет в МХАТе, в лучшем театре мира. Страшно взбудоражен был весь "Гудок". Булгаков стал ходить в хорошем костюме и в галстуке. Но вдруг оказалось, что через некоторое время появляется пьеса другого гудковца, потом появляется пьеса третья, тоже гудковца, мои "Растратчики" и "Три толстяка" Олеши. Тогда все сотрудники "Гудка" перестали заниматься своими делами и начали писать пьесы. Когда бы вы ни пришли в "Гудок", у всех на столах лежат пачки бумаги и все пишут пьесы для Художественного театра.
Это было очень смешно и странно, что почему-то из железнодорожной газеты вышли авторы Художественного театра. Даже Станиславский был дезориентирован. И когда его спросили, работает ли театр с рабочими авторами, он не без гордости ответил: "Как же, как же, разве вы не знаете, что у нас идет пьеса железнодорожника Булгакова и готовятся еще две пьесы железнодорожников".
Пьеса в первом варианте, которую Булгаков нам читал, была не той пьесой, которую потом увидели зрители в МХАТе. Это была пьеса и романтическая, и сатирическая, многокартинная. Там было много ярких сценических образов, которые выпали. Тогда Художественный театр стремился к простоте, к камерности, и он немного по-другому транспонировал пьесу Булгакова. Я думаю, что это оказалось даже лучше. Ведь иногда интуиция актера и режиссера делает чудеса.
В пьесе "Дни Турбиных" есть образ студента Лариосика. Как скажешь "Лариосик", так вы сразу увидите худенького тогда Яншина. А у Булгакова он был задуман как здоровенный неуклюжий детина из провинции, который сразу стал неудобным человеком в доме. Эту комическую фигуру театр сделал совсем по-другому. Яншин и режиссура сделали Лариосика не таким, как написал Булгаков, но не хуже, а, может быть, даже лучше. "Дни Турбиных" были громадной победой Булгакова. И Булгаков из прозаика превратился на некоторое время в знаменитого драматурга.
Булгаков - автор великолепнейших сатирических повестей. Булгаков никак не мог отделаться от любви к сатире и появлялся то в "Крокодиле", то в "Красном перце". "Красный перец" помещался тогда в подвале на Б. Дмитровской, против ломбарда, там собирались великолепные художники и писатели-юмористы. Я туда привел Маяковского. И состоялась встреча Булгакова с Маяковским. Маяковскому не нравились вещи Булгакова, он ругал "Дни Турбиных", хотя тогда еще их не видел. Маяковский посмотрел на Булгакова ершисто. А Булгаков страшно любил новых людей. Маяковского он тоже не очень признавал, но ценил. Чувствуя в нем большого писателя, понимал его политический и общественный масштаб. Маяковский спросил у Булгакова: "Что вы сейчас пишете?" Булгаков оживился: "Я пишу сатирический роман, и вы знаете, там у меня есть профессор, а я не знаю, какую ему дать фамилию. Должно быть видно, что это советский профессор, но фамилия должна быть смешная. Может быть, вы мне посоветуете?" И Маяковский сразу же сказал: "Тимирзяев".
Булгаков страшно хохотал. Юмор сблизил Маяковского и Булгакова. Они очень мило беседовали. Но все-таки они тогда стояли по разную сторону театральных течений. Маяковский - это Мейерхольд, а Булгаков - Станиславский.
В общем, это была великолепная пора. Хочу еще сказать о Булгакове, что он был отличный стилист, публицист и прирожденный беллетрист. Великолепно писал диалоги. Читать Булгакова легко и приятно.
В моей театральной жизни Булгаков тоже сыграл важную роль. Когда я написал пьесу "Растратчики", мне нужно было ее читать в театре. И вот я просто испугался. Это было второе чтение, причем знаменитые актеры МХАТа мне говорили - вы хорошо пишете, но читаете просто ужасно…
Я убедил Булгакова прочесть мою пьесу за меня. Он страшно не хотел. Упрямился, морщился. Но все-таки я его упросил. Он с большим мастерством читал пьесу, что обеспечило ее успех у актеров.
И. Раабен
В начале двадцатых
В сентябре 1970 года Ирина Сергеевна Раабен рассказала нам, как поздней осенью 1921 года к ней пришел очень плохо одетый молодой человек и спросил, может ли она печатать ему без денег - с тем, чтобы он заплатил ей позже, когда его работа увидит свет. "Я, конечно, согласилась", - сказала Ирина Сергеевна. Теперь, спустя полвека, она впервые рассказывала об этом: ее племянник, профессор-историк А. А. Зимин, уговорил ее поделиться с нами своими воспоминаниями:
"Я жила тогда - с родителями и мужем - в доме № 73 по Тверской, где сейчас метро "Маяковская". Муж был студентом последнего курса, я работала сестрой, а по вечерам подрабатывала перепиской на машинке. Внизу помещался цирк. Артисты, братья Таити, печатали у меня свои куплеты. Может быть, они направили ко мне Булгакова. Первое, что мы стали с ним печатать, были "Записки на манжетах". Он приходил каждый вечер, часов в 7–8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой не было. Рукописи, могу точно сказать, не оставлял никогда. Писала я только под диктовку. Он упомянул как-то, что ему негде писать. О своей жизни он почти не рассказывал - лишь однажды сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шел около двухсот верст от Воронежа пешком - по шпалам: не было денег. Мне кажется даже, что об этом было написано в первом тексте "Записок…". (Вполне возможно, что именно таким образом он проделал осенью 1921 года часть пути из Батуми до Киева к своим родным, откуда уже выехал в Москву. - М. Ч.)
Было видно, что жилось ему плохо, и не представляла, чтобы у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Он обогревался в нашем доме, хотя мы сами жили тогда бедно. У нас была большая квартира в шесть комнат; шесть окон смотрели на Тверскую, четыре во двор. Он был голоден, я поила его чаем с сахарином, с черным хлебом; я никого с ним не знакомила, нам никто не мешал. Мой отец был командир дивизиона, генерал, брат кончил Пажеский корпус; оба перешли позже на сторону советской власти, но в то время, когда появился Михаил Афанасьевич, мы еще, как бы сказать, не перековались… Однажды он пришел веселый: "Кажется, я почувствовал почву под ногами". Он поступил тогда секретарем Лито Наркомпроса… Он жил по каким-то знакомым (в комнате Б. А. Земского, в которой ни он, ни Татьяна Николаевна не были прописаны, и их все время грозили выселить. - М. Ч.), потом решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: "Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки". И так и сделал. Он послал это письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой 18-метровой комнаты где-то в районе Садовой.
…Когда "Записки на манжетах" были закончены, он долго не мог их напечатать. Он приходил в отчаяние, рассказывал, что не принял никто. Потом пришел и сказал, что продал в издательство "Накануне", в Берлин.
Мы печатали еще рассказ или повесть "Дьяволиада", еще повесть, которая впоследствии называлась "Дом 13" ("№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна". - М. Ч.), потом довольно большую повесть "Роковые яйца". 11 марта 1924 года он подарил мне оттиск "Дьяволиады" из альманаха "Недра" с надписью: "Ирине Сергеевне Раабен в память нашей совместной кропотливой работы за машинкой" (И. С. Раабен подарила в 1970 г. этот оттиск Отделу рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, и он хранится сейчас в архиве М. А. Булгакова. М. Ч.).
…Про Киев рассказывал бегло - и сказал, что все это отразится в романе. Между "Записками на манжетах" и романом был перерыв. Этот роман я печатала не менее четырех раз - с начала до конца. Многие страницы помню перечеркнутые красным карандашом крест-накрест - при перепечатке из 20 оставалось иногда три-четыре. Работа была очень большая… В первой редакции Алексей погибал в гимназии. Погибал и Николка - не помню, в первой или во второй редакции. Алексей был военным, а не врачом, а потом это исчезло. Булгаков не был удовлетворен романом. Помимо сокращений, которые предлагал ему редактор, он сам хотел перерабатывать роман… Он ходил по комнате, иногда переставал диктовать, умолкал, обдумывал… Роман назывался "Белый крест", это я помню хорошо. Я помню, как ему предложили изменить заголовок, но названия "Белая гвардия" при мне не было, я впервые увидела его, когда роман уже был напечатан. Я уехала с этой квартиры весной 1924 г. - в апреле или мае. У меня осталось впечатление, что мы не кончили романа - он кончил его позднее. Когда я уехала на другую квартиру, знакомство наше, собственно, прервалось, но через несколько лет я через знакомых получила от него билеты на премьеру "Дней Турбиных". Спектакль был потрясающий, потому что все было живо в памяти у людей. Были истерики, обмороки, семь человек увезла скорая помощь, потому что среди зрителей были люди, пережившие и Петлюру, и киевские эти ужасы, и вообще трудности гражданской войны… И в моей семье были бедствия - с отцом, братом; дети; очень ранняя болезнь и смерть мужа, трудности… И воскрес для меня Михаил Афанасьевич только при появлении "Мастера и Маргариты".