Художественно-документальные повести посвящены русским писателям - В. Г. Теплякову, А. П. Баласогло, Я. П. Полонскому. Оригинальные, самобытные поэты, они сыграли определенную роль в развитии русской культуры и общественного движения.
Содержание:
С. С. Тхоржевский - Портреты пером 1
РИСУНОК ЖИЗНИ ХАРАКТЕРНЫЙ… - Вступительная статья 1
СТРАННИК 2
ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ 30
ВЫСОКАЯ ЛЕСТНИЦА 58
Основные произведения В. Теплякова, А. Баласогло, Я. Полонского 94
С. С. Тхоржевский
Портреты пером
РИСУНОК ЖИЗНИ ХАРАКТЕРНЫЙ…
Вступительная статья
Три повести С. С. Тхоржевского писались в разное время, самостоятельно, но вместе они составляют как бы специально задуманный цикл повестей. Задуманный и выполненный очень своеобразно, однако, думаю, что получилось это само собой и, как все, что получается само собой, куда интереснее и глубже замысленного.
Повести эти о трех русских писателях, каждый из них писатель небольшой, не первого ранга, каждый прожил в общем-то обыкновенную жизнь и вот про него пишут книгу. Почему? Чего ради? Что же увидел в этой жизни автор? И что вообще делает жизнь ценной и важной? Неужели только талант, обязательно большой талант, или причастность к гению достойны внимания писателя?
Подобного рода вопросы заставляют вчитаться внимательнее в этот своеобычный цикл и говорить о нем подробнее.
Предметом исследования автора явилась русская литературная среда середины XIX века. Не стало Пушкина, не стало Лермонтова, но литературная жизнь продолжается. Возникают и исчезают альманахи, журналы, газеты, появляются новые имена, иные гаснут тут же, иные разгораются. Медленно, но не без их участия движется российская словесность к новым вершинам. Читая о том, как автор работал в архивах, разбирал этот гербарий жизни, естественно задумываешься над тем, что же остается от времени, от страстей и стараний человеческих. Бумаги? Чаще всего и полнее всего отображен был пишущий человек в бумагах III отделения. И логично, что автор воссоздает человека по этим свидетельствам, учитывая их пристрастность.
Повесть "Странник" посвящена малоизвестному поэту пушкинской поры Виктору Теплякову. Ни в большой, ни в малой "библиотеке поэта" нет его отдельного сборника. Не вошел. Не достиг, подобно многим другим поэтам того времени. Да почему только того, точнее будет сказать: подобно поэтам всех времен. А между тем жизнь его имела рисунок характерный… В юности пострадал не то за масонство, не то за связь с декабристами. Был прощен царем. Путешествовал. Служил по дипломатической части… Писал грустные стихи, подражая Пушкину. Был отмечен им, а также Жуковским, с которым дружил. Умер в Париже 37 лет. В "Литературной энциклопедии" о нем всего несколько строк. В поэтическом обиходе он остался как автор грустных стихов…
Взрослая жизнь начиналась в ту пору рано. Теплякову, когда он отказался присягнуть царю, был 21 год. Его помиловали, но сослали в Херсон. Не в Сибирь, а как бы не очень-то всерьез отнеслись и выкинули из привычной жизни, не дав славы героя и страдальца. Поступок свой он совершил в одиночку и наказан был за него одиночеством. Очень точно автор назвал эту повесть "Странник". В его судьбе чьи-то имена, города напоминают о Пушкине: Одесса, опала, Воронцов, благосклонность его жены, друзья и брат в Петербурге… Но обстоятельства еще не создают поэта. Повесть в какой-то мере выявляет закономерность и связи характера, одаренности и обстоятельств. В сопоставлении с Пушкиным проступает загадочность и непостижимость гения. События, переживания, неудачи, восторги, проходя через поэта, как через линзу, прожигают нас и через десятки, сотни лет. В другом же случае столь же богатая переменами жизнь бедна чувствами, и "магический кристалл" не усиливает их, а притушает, слабые отблески еле доходят до нас.
Нигде не изменяя законам жанра, не давая воли воображению, автор ведет нас за своими героями, и постепенно мы проникаемся доверием к его, автора, объективности. Тепляков, этакий Мельмот-скиталец, как называют его друзья, так стремившийся к великим делам, пусто и холодно завершает свою молодость, да и жизнь. Скептик с тонкой душой, он неожиданно подтверждает жизненность, казалось бы, чисто литературных героев того времени - Онегина и Печорина. Как и они, он способен на многое и ничего не совершает, как и они, видит и презирает ничтожность окружающего и терпит, его разочарование ни к чему не приводит.
Почему Тепляков в 25 лет перестал писать стихи? Мы так и не узнаем. Не все времена годны для поэзии. Тхоржевский как бы сохраняет ту тайну, которой является человек при жизни и остается после смерти. Может быть, Тепляков в другие времена достиг бы большего, расцвел бы. Это, возможно, одна из судеб, через которую доходит облик и воздух эпохи.
Он жаждал дела осмысленного, благородного, а окружали его жалкие люди и глупые дела. Путешествуя безрадостно и бесцельно, нигде не находил он удовлетворения. Желание его в конце концов исполнялось, но все нагоняло тоску. Что-то сжигало этого человека. Поступок, совершенный в юности, требовал достойного продолжения, а продолжения не было… Время от времени в рассказе Тхоржевского слышится сомнение - а оправдана ли такая жизнь, нужен ли максимализм, в чем его смысл?.. Мог же он записать встречу с Пушкиным, вечера у Вяземского, вести записки о Востоке. Но ему хотелось великих свершений. А может его и не было, этого великого дела, а были трудные, невыигрышные обязанности на благо этих вот жалких людей в душной стране. И в этом был подвиг не совершенный. Один за другим вопросы возникают перед внимательной читательской душой.
Загадочная его, так и не распустившаяся, жизнь закончилась, оставив недоуменное раздумье, которое и составляет драгоценный осадок этой повести.
Имя Баласогло еще менее известно, чем Теплякова. Оно связано даже для специалистов лишь с делом Петрашевского.
Жизнь его начиналась ярко, с некоторой долей авантюризма. Еще подростком он отличался храбростью - при военных действиях под Варной. Целеустремленность, редкие способности - все предрекало Баласогло блестящую будущность. Только ли косность и тупость чиновников помешали ему? Отчетливо видно, сколько надо преодолеть для любого результата, как сильны были те, кто хоть чего-то добились. Истории Баласогло и Теплякова показывают высоту барьера, который надо взять, чтобы двигаться вперед. Они неординарны, они одарены, но это никому не нужно, они трудолюбивы, но этого мало, они настойчивы, но все это увядает среди всеобщего бездействия и продажности.
Повесть о Баласогло отличается недоговоренностью, но Тхоржевский не позволяет себе ничего досочинять. Немногие известные факты выстраиваются в связную биографию. Энтузиазм, восторженность лишь освещают начало пути Баласогло. Неудача по службе, расстройство планов и проектов - несчастья преследуют его. Молодость, возбужденная угаром идей и планов, помешала создать крепкие дружеские и семейные связи. Жена, дети, должности, литература - все это приносило унижения и огорчения, все ускользало. Занятия науками не поощрялись, люди просвещенные, ищущие, прямолинейные - пугали. Такое впечатление, что роль судьбы в его жизни сыграла жена. Ее таинственная связь с Дубельтом возбуждает воображение. И то, что Тхоржевский удерживается от соблазна романтической истории между шефом жандармов и женой сосланного им человека, избавляет книгу от малейшего привкуса беллетристики, которая портит лучшие повествования такого рода. Факты делают эту историю значительнее. Жена Баласогло получает деньги вместе с матерью доносчика Антонелли. Дубельт платит своей любовнице, словно агенту.
В беспросветном одиночестве Баласогло проводит свою жизнь. Сосланный в Петрозаводск, отданный во власть чиновника-мерзавца, он все же добивается интересного для себя дела, путешествует по Карелии. Стоит отметить, что культура в России в XIX веке, да порою и раньше, распространялась с помощью ссыльных. Некоторые действия Баласогло непоследовательны, факты частью утеряны, скрыты от нас, контуры души едва просвечивают, но автор верен себе, он сохраняет эту незаполненность, эту незавершенность для нашего воображения.
Баласогло, не в пример другим петрашевцам, ссылкой был сломлен. В будущем его ждали не менее тяжкие унижения, сумасшедший дом, жалкое существование в Николаеве. В этой повести возникает широкая панорама - Николаев, Одесса, Петрозаводск, Петербург; писатели, художники - Гончаров, Федотов, Шевченко, Майков… Кто кончает с собой, кто уезжает, кто пытается приспособиться, ищет компромисса. В такие времена литература продолжается усилиями литераторов средней руки, их приспособляемость выше, уязвимость меньше. То там, то здесь появляются статьи, стихи, из-за которых издателей вызывают в III отделение, закрывают журналы, наказывают.
Обыватель строит свое мировоззрение, формирует свои идеалы, пользуясь массовой литературой, и массовая литература отражает его вкусы и потребности. Пусть эта литература минутна, злободневна, но она характерна, по спросу на нее можно судить об уровне общественного сознания и нравов. Людям мыслящим она нужна в меньшей степени, обывателю она заменяет собственные мысли и чувства. Если литераторы этого толка занимаются своим делом честно, искренне, они много доброго и полезного могут сделать. Гений осваивается сперва литературной средой. Гении - событие прежде всего в литературной среде. Средний писатель готовит и воспитывает читателя, он как бы популяризирует великих писателей, помогая привыкнуть к новой форме, новой образности.
Третья, самая интересная, хотя и более привычная повесть - о Полонском. Привычность ее связана с тем, что имя Полонского просвещенному читателю, любителю поэзии достаточно известно. И хотя жизнь поэта можно считать неяркой, типичной, тем интереснее эта повесть. Перед нами притягательный образ поэта, который дорог не только своим талантом, но прежде всего своим душевным складом. "Для меня важно, что был он не только талантливым, но, по единодушному свидетельству современников, светлым и добрым человеком. Иначе бы я не взялся за перо", - пишет автор.
Интересно, как автор восстанавливает эти эмоциональные, казалось, неуловимые качества. Будучи человеком добрым, Полонский находит удовлетворение в своей доброте, он создает как бы примеры нежной дружбы. Перед нами - история ясной, любящей, страдающей души, которая осталась в этом мире в письмах и стихах. Идеи молодости воплотились у Полонского в реальную доброту повседневной деятельности. Полонский мил автору чрезвычайно, это ощущается даже в стиле повествования, в особой поэтичности, в ярких картинах тифлисской и одесской жизни. Тут жизнь, соответствуя то несчастному, то беспричинно-веселому Полонскому, играет красками, запахами, полна дружелюбием и общительностью. Наследие Полонского включает эти дружеские связи, переписку, которые столько дали окружающим. Молодой человек на вопрос, зачем он едет на вечер к старику Полонскому, ответил: "Для душевной дезинфекции". Такими людьми, как Полонский, создавалась литературная среда здоровая, а не губительная, питательная, а не растлевающая. Как важно, чтобы были люди бескорыстно преданные литературе, не зарабатывающие на ней денег, славы, любящие ее, а не себя в ней. Они зажигают в других страсть к правдивому слову. Ничего не имея при жизни и ни на что не претендуя, они верно служат делу русской литературы, так много значащей в жизни нашего народа.
Даниил Гранин
СТРАННИК
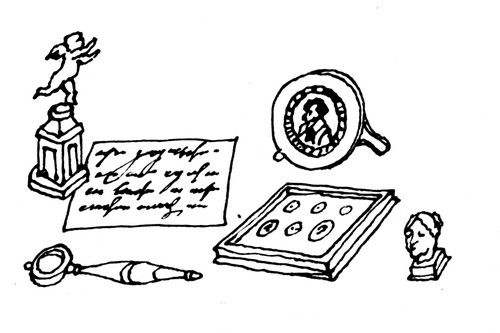
Глава первая
Здесь шум единый - ветра вой,
На башне крик ночного врана,
Часов церковных дальний бой,
Да крики стражей, да порой
Треск зоревого барабана.Виктор Тепляков. "Затворник" (1826)
Если ты воодушевлен общим порывом, захвачен общей волной, принимать решения - вместе с другими - куда легче, чем те же самые решения принимать потом в одиночку.
Вспомним один малоизвестный исторический пример.
Вспомним один поступок, совершенный уже после того, как потерпело сокрушительную неудачу восстание 14 декабря 1825 года. Большинство его участников были схвачены и в казематах Петропавловской крепости ожидали грозного суда. Уже твердо и прочно воцарился новый император всероссийский Николай I.
И вот в это время, когда уже все непричастные к восстанию, военные и штатские, были приведены к присяге Николаю, нашелся в Петербурге молодой человек, который, по примеру восставших, уже после их разгрома, уклонился от присяги царю.
Как и все, он бывал на исповеди в церкви, на вопросы священника приучен был с детства отвечать честно. И когда священник спросил, присягнул ли он новому государю, - ответил: "Нет". Священник пригрозил, что донесет на него, если молодой человек не примет присяги безотлагательно. Казалось бы, нет более возможности уклониться, но он все равно не присягнул. А в следующий раз послал к исповеди - вместо себя - своего младшего брата, который мог, не принимая греха на душу, сказать, что он присягал, - так оно и было. Несмотря на их большое внешнее сходство, во время исповеди священник распознал подмену и немедленно донес на братьев куда следует.
Ну, вот и схватили обоих. 20 апреля 1826 года были арестованы и доставлены, в Петропавловскую крепость отставной поручик Виктор Тепляков, двадцати одного года от роду, и его семнадцатилетний брат Аггей, юнкер лейб-гвардии Конноегерского полка.
При обыске у Виктора Теплякова не было обнаружено ничего недозволенного, за исключением масонских книг и знаков. Эти же знаки оказались наколоты у него на руках. А ведь масонство еще в 1822 году было объявлено вне закона.
Виктор Тепляков родился в Тверской губернии, в дворянской семье, одиннадцати лет был отдан в Московский университетский пансион, а шестнадцати лет - "спеша жить", по его собственному выражению, - поступил юнкером в Павлоградский гусарский полк.
В том же полку служил майор Петр Каверин. Он был старше Теплякова на десять лет и в свое время также воспитывался в Московском университетском пансионе. Но по окончании пансиона не сразу пошел на военную службу: учился в университетах, сначала в Москве, затем в Германии, в Геттингене. Там он был принят в масонскую ложу "Августа Золотого Циркуля".
По возвращении в Россию Каверин вступил в "Союз благоденствия" - тайное общество будущих декабристов. Позднее, когда "Союз благоденствия" перестал существовать, было создано в Петербурге новое тайное общество - Северное. В него Каверин уже не вступил. Но продолжал считать себя масоном. Ввёл в масонскую ложу горячего юношу Виктора Теплякова - уже не юнкера, а корнета гусарского полка.
В те времена масонство (или, еще говорили, франкмасонство) казалось привлекательным для многих образованных молодых людей. Оно отличалось не только эффектной внешней стороной: строгими ритуалами тайных собраний, знаками, непонятными для непосвященных. Привлекала в нем идея самосовершенствования, идея братства и взаимной поддержки. Масонство сглаживало различия религиозные: православные, протестанты и католики могли состоять в одной ложе. В "Исповедании веры франкмасонов" утверждалось: "Если различие религий произвело столько смут, это объединение в среде франкмасонов будет содействовать укреплению всех уз". В разные масонские ложи приняты были многие будущие участники восстания 14 декабря.
Не имея определенной политической окраски, масонство не противоречило монархическим принципам, так что император Александр I поначалу относился к масонам снисходительно и терпел существование в России масонских лож. Но позднее пришел к выводу, что эти ложи опасны уже тем, что они тайные и таким образом ускользают от контроля, 1 августа 1822 года царь издал указ:
"1) Все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как-то масонских лож и другими, закрыть и учреждения их впредь не дозволять.
2) Всех членов этих обществ обязать подписками, что они впредь не будут составлять ни масонских, ни других тайных обществ.
3) …Не желающие же дать подписку должны быть удалены от службы".
Сотни офицеров после этого дали подписку в том, что они "впредь не будут составлять ни масонских, ни других тайных обществ". Дал такую подписку и Каверин.
Но корнет Виктор Тепляков скрыл свою причастность к масонам и подписки не дал - видимо, связывать себя подобной подпиской не хотел.
В начале 1823 года Каверин ушел в отставку и поселился в имении под Калугой. Летом того же года он путешествовал по России и с дороги слал письма младшему своему товарищу Виктору Теплякову.
Вот письмо из Николаевской слободы в низовьях Волги: "Здесь самые значительные запасы соли… Если бы государю угодно было пожаловать мне и вам, Виктор Григорьевич, несколько бугров [соляных], вы бы, я уверен, тотчас оставили службу и поехали в Геттинген, а я бы продолжал свое путешествие, только с вящим спокойствием… В Царицыне кажут палку Петра I, хотя она и мудрая палка, но как вы знаете, что я не люблю ни мудрых, ни глупых, ни долгих, ни коротких - словом, никаких палок, то я проеду мимо…"
Значит, Тепляков уже рад был бы тоже уйти в отставку и поступить в университет - быть может, по, примеру Каверина, в геттингенский, но не позволяли средства…
Почти годом позже (в апреле 1824-го) Каверин писал ему: "Намерение ваше путешествовать, ловить смешное и странное, приятное и полезное - достойно вас и идет к вашим летам, способностям…"
В письме 10 мая: "Вы просите, как вам быть, чтобы быть в Петербурге. Дождаться сентября - и в отставку, а там куда хотите, а то зачем набиваться на неприятности" (Тепляков последовал совету - подал в отставку, сославшись на слабое здоровье, именно в сентябре).
В письме 24 июня Каверин написал о смерти Байрона:
"Получая Allgemeine Zeitung - вероятно, поразило вас там [известие] о потере славного поэта? За последнее письмо особенно благодарю - из него видно, что вы понимали, любили и почитали умершего".
В письме 15 октября из Калуги: "Как же вы сделали, чтобы не быть на смотру у государя, или вы были?"
По этим отдельным фразам из писем Каверина (ответные письма не сохранились) можно себе представить, пусть приблизительно, чем жил и дышал Виктор Тепляков.