Малый и средний бизнес я понимаю реально плохо, хотя люди, которые им занимаются, составляют основу общества. Я же умею управлять только большими системами. Работая в "Норильском никеле", я получил уникальную эрудицию в этой области: я теперь разбираюсь в добыче газа, производстве электроэнергии, строительстве аэропортов, ЖКХ, наполнении бюджетов, Северном морском пути, авиаперевозках, социальном обеспечении. Я хорошо понимаю стыки этих проблем – а именно на них создается стоимость. При этом, на мой взгляд, большинство крупных управляющих компаний сегодня чрезмерно политизированы. Традиционные бизнесмены превратились если не в политиков, то уж точно в общественных деятелей. А я – нет, и в этом мое конкурентное преимущество.
– Однако мало кому в России удалось создать неполитизированный бизнес стоимостью несколько миллиардов долларов. Вы считаете, что способны на это?
– Вы, видимо, о взаимоотношениях государства и бизнеса? На мой взгляд, в нашей стране эта тема во многом надуманна, хотя, конечно, и имеет свою предысторию. В всех странах отношения государства и бизнеса не являются безоблачными. И если возникает политическая надобность, государство везде действует крайне жестко. Возьмем США – там власть взяла и разрушила одного из крупнейших мировых аудиторов – Arthur Andersen – в полгода. Что, другие аудиторы не делали того же самого, что делали в Arthur Andersen? Конечно, делали. Просто Arthur Andersen случайно оказалась аудитором Enron. А поскольку возникла угроза для фондового рынка в целом, надо было показать жесткую регулирующую руку государства. Вот вам пример из одной из самых демократических стран мира.
Тем не менее тут нет особенных сложностей. Государство определяет стратегию. Задача бизнеса в том, что он должен участвовать как самая активная сила в выработке решений по стратегии. А когда все решения выработаны, то должен в этих направлениях и работать. Но наш бизнес – и это его беда, а не вина – зачастую к этому не готов.
– Кто гарантирует адекватность выбора стратегии государства, чиновники которого, вообще говоря, не занимаются бизнесом?
– Государство – это не только чиновники, но и граждане, и бизнес.
– Но то государство, которое ставит задачи, – это правительство, администрация президента, региональные власти, но никак не граждане.
– Но забора-то нет? Есть связи между реальными лицами: властной элитой, бизнес-элитой и даже рядовыми гражданами, которые взяли и перекрыли дорогу, по которой все ездят.
Если у бизнесмена есть концептуальная идея, нет проблем донести ее до власти. Когда я, возглавляя "Норильский никель", подходил с нормальными системными проектами к власти, я всегда встречал ее поддержку. В качестве примера можно привести и водородную энергетику, и проекты по меди в Читинской области. Мы там взяли месторождения, отбурили их, сделали аудит, отработали крупный инвестиционный проект и показали власти. Вот рабочие места, вот доходы, вот усиление российской позиции на границе с Китаем. И все – вообще проблем нет! Пришли, инвесткомитет рассмотрел заявку, мы выслушали замечания, доказали, где правы, где не правы, – и получили большие деньги на инфраструктуру.
Если занимаешься бизнесом, им и занимайся, только ставь вопросы, интересные государству. Зачастую ведь ставят вопросы из 90-х – "надо поделить какой-то актив", ну и так далее. Соответственно, не надо удивляться, что тебя не понимают.
У нас в стране закончился этап стабилизации и начался этап развития. Для этого развития и надо приносить интересные государству проекты – и бизнес это должен делать в первую очередь. А сейчас количество проектов, интересных государству, крайне ограниченно. Бизнес должен лучше других понимать, какие конкурентные преимущества есть у нашей страны. Если он этого не понимает, он не может рассчитывать на содействие государства.
– То есть идите к государству, а иначе государство придет к вам?
– Это неважно. Имеет значение лишь то, что государство, бизнес и граждане взаимосвязаны. Есть поговорка – народ получает то государство, которое заслуживает. То же относится и к бизнесу. Если он не понимает текущих задач, к нему и приходит государство.
– То есть проблема Михаила Ходорковского заключалась в том, что он не приносил интересных проектов? Вы правда думаете, что пара сотен крупных госчиновников лучше вас понимают, как вести бизнес?
– Знаете, как я проверяю свои идеи? Я иду к рабочим и пытаюсь на пальцах им объяснить. Если они меня понимают, тогда идея правильная. Это касается и развития компании, и мирового лидерства. Надо уметь объяснить свою мысль кому угодно. Бывают плодородные почвы, а кое-где цветочкам приходится пробиваться сквозь асфальт. Бизнес должен уметь пробивать свою идею сквозь асфальт.
– А у государства не должно быть своих идей?
– Это дорога с двусторонним движением. Совершенно необязательно, что бизнес сам придумывает. Я не считаю, что у власти находятся некомпетентные и глупые люди. У нас сейчас гораздо более компетентное правительство, чем 15 лет назад. Но каждый должен заниматься своим делом. Нельзя быть одной ногой в бизнесе, а другой – в политике. Чудес не бывает. Хочешь быть бизнесменом – занимайся бизнесом. Хочешь быть политиком – продавай бизнес.
– Но почему тогда в мире эта практика существует?
– Просто в западных странах существует цивилизованный институт лоббистов. Вы где-нибудь видели, чтобы CEO крупной компании делал политические заявления? Никогда такого не было. У него для этого есть бывшие сенаторы и губернаторы.
– Может ли государство стать новым партнером Вла димира Потанина в "Норильском никеле"?
– "Норильский никель" – сложный актив для государства. При этом я убежден, что государству вообще все равно, какая форма собственности у предприятия, – главное, чтобы оно приносило доход и развивалось. Государство получит с этого налоги, рабочие места и так далее. Если посмотреть развитые государства, в них в госсобственности обычно оказывалось то, что не приносило доходов – проблемные активы. Когда бизнес поднимался, государство его продавало. Ну и, конечно, важен контроль над инфраструктурными монополистами. Но продукция "Норильского никеля", кроме, разве что, меди, не является принципиально важной для экономики – мы работаем на экспорт.
– Но такие же экспортно-ориентированные нефтегазо вые активы государство покупает...
– В сырьевом цикле экономики это нормально. Когда цены на нефть будут падать, пойдет обратный процесс.
– Занятная картина: государство покупает на пике конъюнктуры компании по высокой цене и продает тогда, когда стоимость падает. Что-то в этом не так, не находите?
– В нашей стране, с ее молодой рыночной экономикой, по-всякому бывает.
– И в этом нет ничего неестественного?
– У нас есть проблема – низкий добавленный продукт. В такой ситуации фетиш обладания сырьевыми компаниями очень вы сок – и для государства тоже. Будем делать добавленный продукт, ситуация изменится.
– То есть все объяснимо, все устроится, у вас нет повода ни для опасений, ни для критики государства?
– Я привык начинать с себя. Свои проблемы я решаю сам. Если меня кто-то не понимает, проблема во мне: надо все делать так, чтобы поняли.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Михаил Дмитриевич Прохоров.
Родился 3 мая 1965 года в Москве. В 1989 году с отличием окончил Московский финансовый институт и поступил на работу в Международный банк экономического сотрудничества. С 1992 го да работал в структурах Владимира Потанина: АКБ "Международ ная финансовая компания" (председатель правления), ОНЭКСИМбанк (председатель правления, президент), НК СИДАНКО (член совета директоров). В ноябре 2000 года назначен президентом Росбанка. С июля 2001 года – гендиректор, председатель правления ГМК "Норильский никель" (владеет 25,5 % акций). В марте 2006 года возглавил совет директоров ОАО "Полюс Золото" (владеет 28,3 % акций). Возглавляет благотворительный Фонд Михаила Про хорова, входит в высший совет общества "Спортивная Россия". По данным СМИ, ежегодно тратит несколько миллионов долларов на поддержку хоккейного и футбольного клубов ЦСКА. 31 января 2007 года объявлено о его выходе из совместного с Владимиром Потаниным бизнеса. Российская версия журнала Forbes оценивает его состояние в $7,6 млрд (10-е место), международная – $6,4 млрд (89-е место). Награжден орденом Дружбы.
COMPANY PROFILE
ГМК "Норильский никель".
Производитель цветных и драгметаллов "Норильский никель" создан в 1989 году на основе построенных в 1935–1940 го дах Норильского комбината, "Печенганикеля" и "Североникеля". В ноябре 1995 года 38 % акций через залоговый аукцион получил ОНЭКСИМбанк. В настоящее время основными собственниками ГМК являются Михаил Прохоров и Владимир Пота нин, контролирующие по 25,5 % акций. Главными добывающими подразделениями компании являются Заполярный филиал на Таймыре и Кольская ГМК. В структуру также входит крупнейший российский производитель золота ОАО "Полюс Золото" и ряд вспомогательных перерабатывающих и электроэнергетических активов. Для экспорта созданы компании Norilsk Nickel Europe, Norilsk Nickel USA и Norilsk Nickel Asia. На долю "Нор никеля" приходится более 18 % мирового производства никеля (244 тыс. тонн в 2006 году), 2,5 % меди (425 тыс. тонн), почти 50 % палладия (98,4 тонн) и 13 % платины (23,4 тонн). Чистая прибыль по МСФО в 2005 году составила $2,352 млрд, выручка от реализации металлов – $7,169 млрд. По результатам шести месяцев 2006 года – $2,367 млрд и $4,191 млрд соответственно.
ХРОНИКА
9 ноября 2006 года Росбанк стал номинальным держателем 29,33 % акций "Нор никеля". 20 ноября "Норникель" объявил о покупке никелевых активов американской OM Group Inc. за $408 млн.
31 января 2007 года Владимир Потанин и Михаил Прохоров объявили о разделе бизнеса. Планировалось, что господин Про хоров получит все энергоактивы "Интерроса" и деньги за долю в "Норникеле" (25,5 %). Остальные активы, в том числе "Полюс Золото" (по 28,3 % у каждого), будут поделены пополам.
10 марта "Норникель" за $3 млрд выкупил допэмиссию ОГК-3, увеличив долю до 46,2 %. 12 марта ОАО ФСК приняло решение продать "Норникелю" электросетевое имущество на Таймыре на 2,4 млрд руб.
16 марта совет директоров "Норникеля" принял отставку Михаила Прохорова с поста гендиректора.
3 апреля в должность гендиректора "Норникеля" вступил Денис Морозов, бывший ранее заместителем Михаила Прохорова.
14 мая гендиректор "Полюс Золота" Евгений Иванов покинул свой пост и возглавил ОАО "Полюс Геологоразведка".
16 мая совет директоров "Норникеля" принял решение о выделении энергоактивов ГМК в независимую компанию.
25 мая совет директоров РАО ЕЭС одобрил создание в рамках реформы трех холдингов для обмена активами с миноритариями. Один из холдингов создал "Норникель", владеющий 3,52 % РАО.
29 мая гендиректором "Полюс Золота" назначен глава бизнес-проектов по горнодобыче "Интерроса" Павел Скитович.
31 мая Михаил Прохоров объявил о создании инвестфонда "Группа ОНЭКСИМ" стоимостью более $17 млрд, в который вошли 22 % "Норникеля", 22 % "Полюс Золота" и 50 % "Интерроса".
28 июня на годовом собрании "Норникеля" акционеры не включили Михаила Прохорова в совет директоров. Известно, однако, что он все же планирует вернуться в совет директоров с тем, чтобы лично наблюдать за разделом компании. 6 августа "Норникель" реализовал оферту на выкуп акций ОГК-3 и увеличил долю с 46,6 % до 53,8 % за 15,5 млрд руб.
14 августа "Норникель" купил 97,75 % канадской LionOre за $6,46 млрд. 6 сентября "Норникель" купил у РАО ЕЭС за 23,85 млрд руб. 11 % ОГК-3, увеличив свою долю до 64,8 %.
9 сентября стало известно, что Михаил Прохоров за $1,4 млрд купил на рынке около 3 % акций ГМК, увеличив свою долю до 29 %.
13 сентября совет директоров ГМК включил Михаила Прохорова в список кандидатов в новый состав совета.
25 сентября совет директоров "Норникеля" назначил на 14 декабря собрание акционеров по вопросу о выделении в самостоятельную компанию своих энергоактивов.
12 октября Михаил Прохоров отказался от вхождения в совет директоров "Норникеля" и инициировал раздел 8 % акций компании, которыми владеет совместно с господином Потаниным.
16 октября Михаил Прохоров возглавил совет директоров "Полюс Золота", гендиректором компании вновь стал Евгений Иванов.
Д. Бутрин, Р. Ямбаева
Коммерсантъ № 26 (3602) от 19.02.2007
23. Андрей Раппопорт: у ФСК есть хорошие шансы занять место РАО ЕЭС на рынке ценных бумаг
В конце 2006 года совет директоров ОАО "Федеральная сетевая компания" (ФСК) утвердил инвестиционную программу компании на 2007 год, которая в 2,5 раза превысит вложения 2006 года. ФСК резко наращивает инвестиции накануне своего выделения из РАО "ЕЭС России". О том, как будет реформирована ФСК и о дальнейшей судьбе ЗАО "Интер РАО ЕЭС", рассказывает председатель правления ФСК, глава со вета директоров ЗА О и член правления РАО ЕЭС Андрей Раппопорт.
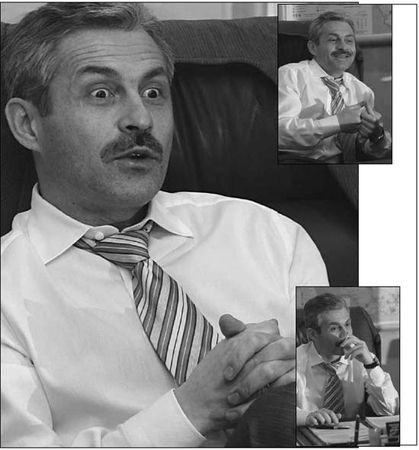
– В 2007 году ФСК исполняется пять лет. Что было сделано за эти годы?
– Основная задача, которую мы решали все эти годы, – это собственно создание ФСК. До реформы РАО ЕЭС представляло собой холдинг, владевший пакетами акций АО-энерго, федеральных электростанций и магистральными сетями. Потом магистральные сети, принадлежавшие непосредственно РАО, выделили в специальную компанию, так получилась отдельная стопроцентная "дочка" – Федеральная сетевая компания. Однако это только кажется, что сети просто были переведены из одного места в другое и больше ничего не произошло. На самом деле нам пришлось структурировать работу, подбирать персонал, вводить единую систему управления сетями. Мы также сформировали единую национальную сеть, взяв в пользование магистральные сети, входившие ранее в АО-энерго. Сегодня мы управляем крупнейшим в мире сетевым комплексом 220–1150 кВт.
Сейчас мы подходим к управлению ФСК как к классическому бизнес-проекту с эффективностью доходности на капитал, а не просто с полезным отпуском электроэнергии. Единственный вопрос, который нам осталось решить, – выделение ФСК из РАО ЕЭС. После этого ФСК станет публичной компанией, акциями которой будут владеть миноритарные акционеры РАО ЕЭС и государство.
– Федеральная сетевая компания уже год управляет распределительными сетями. Что изменилось в распределительных сетевых компаниях?
– 2006 год стал первым годом, когда распределительные сетевые компании работали самостоятельно и имели собственные тарифы. 2006 год показал, что распределение электроэнергии при должном уровне управления является хорошим бизнесом и может быть привлекательным для инвесторов. Капитализация компаний, находящихся под управлением ФСК, в период с декабря 2005 года по декабрь 2006 года выросла почти в три раза. Объем инвестиций в распредсети увеличен в 2,3 ра за – с 23,3 млрд руб. до 53,8 млрд руб., а по отдельным компаниям в три-четыре раза. Мы значительно лучше подготовились к зиме, чем в 2005 году. Особенно это заметно по кубанской и ленинградской энергосистемам, которые имели в 2005 году проблемы с получением паспортов готовности к зиме.
– Вы сказали, что ФСК станет публичной компанией. А для чего нужна публичность?
– Быть полноценной акционерной компанией – это прежде всего рост капитализации и свобода действий по привлечению средств на инвестиции. Заметьте, что РАО ЕЭС почти государственная компания, но ее акции всегда котировались. И когда рынок был плохим, и когда хорошим. Во все времена акции РАО пользовались спросом. После того как материнская компания перестанет существовать, у акций ФСК есть хорошие шансы занять место акций РАО на рынке ценных бумаг.
– Вы говорили, что государству не обязательно владеть 75 % акций ФСК. Почему?
– Лично мое мнение на этот счет таково – по большому счету, государству не обязательно иметь долю в ФСК. У него и так много способов регулирования деятельности ФСК, поскольку ФСК – монополист. Но сегодняшняя культура управления устроена так, что принято, чтобы в подобной нашей компании у государства был по крайней мере контрольный пакет. Поэтому я считаю, что 52 % акций ФСК у государства – это оптимальный вариант.
– Но ведь в законе четко прописано: у государства должно быть 75 % акций.
– Нет, там написано, что в последующем государство увеличивает долю до 75 % акций, то есть никто не обязал государство в какой-то срок выкупать 75 %. Если половина акций компании будет выпущена в рынок, это будет наиболее правильным развитием событий для ФСК.
– Именно в рынок, а как же стратегические инвесторы?
– Стратегический инвестор ФСК не нужен. Да и нет у нас такого стратегического инвестора, который мог бы вложиться в блокпакет ФСК. Нужно все акции выпустить на рынок и дать возможность фондам, портфельщикам, банкам купить эти акции. Потому что если у государства 75 % акций, а на рынке только 25 % акций, то такой пакет может быть разобран тремя-четырьмя крупными фондами. Если же объем акций на рынке будет порядка 48 % акций, то они будут доступны большему числу игроков.
– Когда же ФСК станет публичной компанией?
– Решение по этому поводу было принято на заседании правительства 30 ноября 2006 года. До 1 июля 2007 года должны быть приняты решения, необходимые для получения государством контрольных пакетов акций ФСК и ОАО СО – ЦДУ ЕЭС. До 1 июля 2008 года они должны быть реализованы. К июлю 2008 года мы должны быть уже на рынке.
– А лично вы бы стали акционером ФСК?
– Да, конечно. Сейчас компания сильно недооценена, и уже понятно, что она вырастет в цене. Сейчас она стоит порядка $5 млрд, после того как государство внесет свою долю в уставный капитал и РАО добавит инвестиций, она вырастет еще не менее чем до $15 млрд. Надеюсь, что в конце концов ее капитализация достигнет уровня $25–30 млрд.
– Не слишком ли дорого при сегодняшнем состоянии магистральных сетей?
– Насчет состояния сетей вы не совсем правы. Что касается сетей ФСК, а это линии и подстанции 330 кВт, 500 кВт, 750 кВт и 1150 кВт, которые перешли к нам с баланса РАО ЕЭС, то они находятся в хорошем состоянии. А вот сети, доставшиеся нам от АО-энерго, действительно в тяжелом состоянии. В 2006 году мы серьезнейшим образом подошли к решению этой проблемы и реализовали ряд целевых программ по повышению надежности работы этих сетей. В них было вложено порядка 2,5 млрд руб. В инвестиционной программе 2007 года на инвестиции в сети МСК предусмотрено уже более 15,8 млрд руб.
– Сколько нужно денег для восстановления сетевого хозяйства?
– На момент формирования пятилетней инвестиционной программы всего холдинга РАО ЕЭС потребность в инвестициях в сети – и магистральные, и распределительные – оценивалась в более чем 1 трлн руб. Но в процессе диалога с регионами, который инициировала и ведет ФСК, выясняется, что эта цифра закрывает не все потребности в развитии сетевого хозяйства.