Дело в декабре 1852 года слушалось в Сенате. Генеральный прокурор министр юстиции В. Панин в письме Сенату признал, что на Сухово-Кобылина падает подозрение "если не в самом убийстве, то в принятии в оном более или менее непосредственного участия, а также подозрение в подготовке людей своих принять убийство на себя". Приговор суда был отменен. Квартального надзирателя судили и за пытки заключенных с целью вынудить ложное признание, лишили прав, состояния и сослали в Сибирь.
Сухово-Кобылина взяли под стражу. В ноябре 1854 года его освободили под надзор полиции. Как признался он позже в одной беседе: "Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири". Говорили, возможно, сам император решил, что не следует без прямых улик осуждать знатного дворянина, оправдав его крепостных. Это было чревато серьезными политическими последствиями. Заключительную беседу с Сухово-Кобылиным министр юстиции провел в его доме и сделал вывод: подозрения с помещика снять.
Итак, преступление свершилось, обвиненные оправданы, убийца не найден, дело закрыто. Но ведь кто-то убил Луизу! Безымянный разбойник ее бы ограбил, а на ней остались серьги и два золотых кольца с бриллиантами. Если сексуальный маньяк, то было бы еще одно, а то и несколько сходных преступлений. Тело откуда-то привезли. Значит, его внесли в сани или карету, вытащили. Должны быть соучастники, свидетели убийства или.
В ту пору Сухово-Кобылин ухаживал за "светской львицей" Надеждой Нарышкиной. Журналист Павел Россиев в статье, опубликованной в "Русском архиве" (1910), привел вариант убийства Деманш со слов родственника Сухово-Кобылина. Якобы, когда Александр Васильевич собирался на бал к Нарышкиным, к нему в квартиру ворвалась ревнивая француженка. Бурная сцена кончилась тем, что он, не владея собой, сильно толкнул ее (человек он был физически крепкий). Она ударилась головой о камин и упала замертво.
Но ведь у несчастной было перерезано горло. Неужели это сделал Сухово-Кобылин или он приказал зарезать свою любовницу кому-то из прислуги? Невероятно. Одно дело – порыв в состоянии аффекта, другое – хладнокровное убийство. И зачем оно ему? Да и что он за чудовище, если после всего этого поехал на бал?!
Подробно изложил историю Луизы Симон-Деманш Л. П. Гроссман в книге "Преступление Сухово-Кобылина" (1927). У него не было сомнений: развратный и жестокий помещик-самодур убил свою любовницу и заставил подневольных крепостных взять вину на себя. Ведь в письме, вызывая ее из поместья в Москву, он намекнул на свой кастильский кинжал, вблизи которого она должна находиться.
"Великосветский донжуан, – писал Л. Гроссман, – изящно угрожающий кастильским кинжалом беззаветно любящей еще его женщине, труп которой был вскоре брошен, по его приказу, в глухую ночь на большую дорогу". Писатель не сомневался, что этим кинжалом была зарезана Луиза из ревности. Но такого кинжала так и не нашли. Возможно, не там искали. Он, скорее всего, не более чем аллегория предмета гордости молодого мужчины, которым он разил своих любовниц.
Слухи о загадочном убийстве быстро распространились по Москве. Высказывались разные версии. Л. Н. Толстой написал своей тетке Т. А. Ергольской 7 декабря 1850 года: "При аресте Кобылина полиция нашла письма Нарышкиной с упреками ему, что он ее бросил, и с угрозами по адресу г-жи Симон. Таким образом, и с другими возбуждающими подозрения причинами, предполагают, что убийцы были направлены Нарышкиною".
Согласно такой версии, произошло, как теперь называют, заказное убийство. Но и тут не все сходится. Кто и как совершил преступление? Неужели этот вариант не был обдуман следователями? Скорее всего, именно кто-то из них разгласил тайну следствия и сообщил о найденных письмах и о предполагаемых наёмных убийцах. Но почему преступников искали среди крепостных Сухово-Кобылина, а не Нарышкиной? Не могла же она вступить в тайный сговор со слугами Симон-Деманш и уговорить их совершить преступление. Да и какой им смысл убивать свою хозяйку?
Судя по воспоминаниям Е. М. Феоктистова, Нарышкина имела властный и решительный характер: "Она многих положительно сводила с ума; поклонники этой женщины находили в ней необычайную прелесть, – на мой же взгляд, она не отличалась красотой: небольшого роста, рыжеватая, с неприятными чертами лица, она приковывала к себе внимание главным образом какою-то своеобразной грацией, остроумною болтовней и той самоуверенностью и даже отвагой, которая свойственна так называемым "львицам"".
Сухово-Кобылину он дал и вовсе уничтожающую характеристику: "Его натура, – грубая, нахальная, нисколько не смягченная образованием; этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам, жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права; дворня его трепетала".
То, что Сухово-Кобылин был крепостником, и не из либералов, вряд ли можно оспорить. Но мог ли он убить свою любовницу? Ведь она готова была уехать в Париж, о чем ему писала незадолго до смерти. Неужели он мог убить ее под воздействием чар Нарышкиной? Невероятно. Он был волевым и самостоятельно мыслящим человеком. Это доказывают созданные им три великолепные пьесы. А вот как описал он в августе 1856 года московские торжества по случаю коронации Александра II:
"В 2 часа началось шествие. Жандармы, лакеи, конвой. Азиаты, казаки линейные, атаманские; депутации: черкезы, бухарцы, киргизы, грузины… Рядом за этими вольными народами, за этими крепкими натурами, энергичными лицами тащились бесшляпные, гладкорожие, жирные, подловатые, изнеженно-гнилые русские дворяне…
Четыре кареты были нагружены Государственным Советом и министрами. Сколько в этих четырех золоченых ящиках было соединено грязи, гнили, подлости и совершенных, и имеющих быть совершенными интриг". По его словам, после этого шествия следовало бы использовать кислоту и курения "для очищения заражаемого воздуха".
Мог ли человек, написавший это в своем дневнике (не для других) поддаться на уговоры ревнивой женщины и приказать своим крепостным совершить убийство? А о его отношении к Симон-Деманш свидетельствует такая дневниковая запись от 28 ноября 1855 года, после упешной премьеры его пьесы "Свадьба Кречинского":
"Я ускользнул из ложи, как человек, сделавший хороший выстрел, в коридор. Услышал целый гром рукоплесканий. Я прижал ближе к груди портрет Луизы – и махнул рукой на рукоплескания и публику". И еще одна запись: "Странная Судьба. Или она слепая, или в ней высокий, сокрытый от нас разум… Веди меня, великий слепец Судьба. Но в твоем сообществе жутко. Утром был с А. на могиле моей бедной Луизы".
Незадолго до преступления он попал в нелегкую ситуацию из-за своих любовных похождений. Нарышкина забеременела от него, оставаясь в браке с другим. Симон-Деманш угрожала отъездом в Париж. Терять ее Сухово-Кобылин не хотел, хотя и продолжал встречаться с Нарышкиной. От нее ему тоже пришлось терпеть скандалы за продолжающуюся связь с Симон-Деманш.
Так что же все-таки произошло? Наиболее вероятна, мне кажется, такая версия. В тот роковой вечер Луиза Симон-Деманш решила навестить своего неверного любовника и покровителя. Возможно, она предполагала встретить там ненавистную соперницу – Нарышкину. Но не исключено, что их встреча произошла случайно. Луиза вне себя от гнева устроила скандал.
Взбешенный Сухово-Кобылин резко толкнул ее. Она ударилась головой о камин и, потеряв сознание, упала на пол. Он в истерике выбежал из комнаты (возможно, крича слугам: "Уберите ее!"). Нарышкина, видя, что соперница жива, приказала вошедшим слугам убить ее или сделала это раньше собственноручно, находясь в состоянии аффекта. Она могла пригрозить крепостным в случае непослушания каторгой и обвинением в убийстве.
Несчастную Луизу могли сначала душить подушкой. "Для верности" Егоров перерезал ей горло, полагая, что она уже мертва. Брызнула кровь. Тело вытащили через заднее крыльцо (поэтому там остались потеки крови), погрузили в повозку и увезли. Сухово-Кобылину Нарышкина могла сказать, что слуги увезли Симон-Деманш домой. А им объяснила, как вести себя на следствии: ничего, мол, не знаем, не видели и не слышали.
Странно, что предположение о возможном участии Нарышкиной в преступлении ни следствие, ни суд не рассматривали, ее по данному делу не допрашивали. В начале декабря 1850 года она уехала (сбежала?) в Париж. Спустя несколько месяцев родила там дочку, которую Сухово-Кобылин позже признал своей. В Россию Надежда Нарышкина не вернулась.
Не исключено, что при расследовании приведенная выше картина убийства была восстановлена. Крепостным приказали не говорить правду под угрозой каторги, а участие в преступлении Нарышкиной скрыли. От тех чиновников, которые слишком много знали, Сухово-Кобылину пришлось откупаться, и недешево.
Эта версия представляется наиболее вероятной.
После гибели Луизы Симон-Деманш ему суждено было прожить более полувека, быть свидетелем триумфального успеха комедии "Свадьба Кречинского", написанной им в период следствия, увидеть на сцене две другие свои пьесы – "Дело" и "Смерть Тарелкина", стать в результате классиком русской драматургии. В отрочестве и юности он был современником Пушкина и собеседником Гоголя; в старости стал почетным академиком Петербургской АН вместе с Максимом Горьким.
Судьба его необычайна. "Мы знаем теперь, – писал Леонид Гроссман, – что искусство этого замечательного мастера сцены питалось его необычайным личным опытом, а его жизненный образ, по напряженности и размаху своего трагизма, превосходит самые жуткие маски созданной им трилогии".
Благодаря убийству невинной жертвы, подследственный, а вероятно – невольный соучастник преступления, пройдя судебные мытарства, обрел вдохновение и написал бессмертные комедии, проникнутые горечью и сарказмом.
Н. Ф. Федоров
Николай Федорович Федоров (1829–1903) был внебрачным сыном князя П. И. Гагарина и появился на свет в его имении в Тамбовской губернии. Получил фамилию и отчество от своего крестного. Закончив одесский Ришельевский лицей, сам зарабатывал на жизнь, преподавая в уездных училищах, а с 1869 года поселился в Москве, став библиотекарем. Был замечательным знатоком и страстным любителем книги. Работая с 1874 года в Румянцевском музее, общался со многими русскими мыслителями.
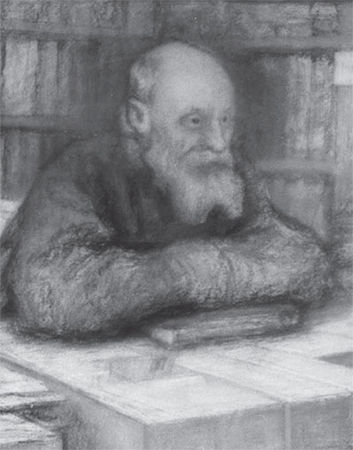
Николай Федоров. Худ. Л. Пастернак, конец XIX в.
Две идеи вдохновляли его: братское единение людей и борьба со смертью. Он верил в науку и полагал, что в конце концов удастся не просто достичь бессмертия, но и воскресить былые поколения. "Всеобщее воскрешение, – писал он, – есть полная победа над пространством и временем". И еще: "Жизнь, конечно, есть дар, и напрасный и случайный, нужно прибавить – и бесцельный, если только он не будет выкуплен трудом, объединенным в общей цели, – для человека дорого лишь то, что он сам выработал, приобрел трудом".
В его воззрениях сочетались категоричность суждений с добротой и наивностью; трезвый взгляд на вещи и опора на здравый смысл – со склонностью к мечтаниям и утопии. Он верил в разумное преобразование природы, выход человека в космическое пространство. Это соединялось с верой в Бога, высший разум и высшую справедливость.
"Дело заключается в том, – полагал он, – чтобы найти, наконец, потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь сообразно с ней. И тогда сама собой уничтожится вся путаница, вся бессмыслица современной жизни".
По его убеждению, "космос нуждается в разуме, чтобы быть космосом, а не хаосом". Являясь частью Природы, человек – во избежание роковых трагедий – обязан исполнять ее законы, действовать в соответствии с общим строем Мироздания. Это не означает покорность, приспособление к существующим условиям и текущим ситуациям. Напротив! "Повиноваться природе для разумного существа значит управлять ею, ибо природа в разумных существах обрела себе главу и правителя".
Высшие космические ценности – Жизнь и Разум. Если ты явлен на Земле не кристаллом, не цветком или деревом, не насекомым или скотом, то есть в этом какой-то смысл? По обыденным представлениям, тут проблемы нет: старайся продлить свою жизнь и развивай свой ум. Федоров имел в виду цели не ближайшие и проходящие, а дальние и вечные: жизнь – везде и для всех, разум – всеобщий. Жить нужно не для себя (эгоизм), не для других (альтруизм), а со всеми и для всех".
Имеются в виду именно все люди – нынешние, прошлые и будущие. Необходимо всеобщее воскрешение – достигнутое собственными усилиями, трудом и волей, разумом, научной мыслью, такова окончательная победа человека над смертью! Идея в основе своей христианская. Однако в отличие от канонических представлений, тут упование не на чудо, а на безграничные возможности познания. Человечество, следуя путем Христа, через сомнения, отчаяние и великие мучения, а главное – творчество… придет к Царству Божию.
…Трудно придумать другую идею, одинаково чуждую теологам и атеистам, мистикам и ученым, идеалистам и материалистам. Не менее верно и другое: концепция Николая Федорова объединяет разнообразные взгляды, словно бесчисленные потоки времени достигают океана вечности. Земная область жизни и разума распространится на Вселенную: человеку суждено осваивать другие планеты и звездные миры, одухотворяя мертвые небесные тела. Так учил Федоров, пророк космической эры (К. Э. Циолковский был его последователем).
Что требуется для преодоления ограничений пространства и времени? Единение и целеустремленность! Братские отношения людей между собой, любовь ко всему живому, преклонение перед предками, вдохновенный труд… Н. Ф. Федоров, как его дальний родственник князь П. А. Кропоткин, выступали против господства над людьми и Государства и Капитала. По словам Федорова, "свобода исполнять свои прихоти и завистливое искание равенства не могут привести к братству: только любовь приводит к братству". А небратское существование ведет к войнам и революциям. Вдобавок, "человек сделал, по-видимому, все зло, какое только мог, и относительно природы (истощение, опустошение, хищничество)". Этот странный русский утопист действительность видел ясней, чем завзятые прагматики.
Что же делать? – Действовать! – отвечал он. Преодолевать уродства современной цивилизации. Свой главный труд он назвал: "Философия общего дела", присовокупив подзаголовок: "Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства".
Как действовать? Убеждением и собственным примером. Кстати, он завещал раздавать свою книгу бесплатно.
Николай Федорович избегал публичных выступлении и докладов, не стремился издавать свои произведения. К суетной славе был равнодушен. Был праведником и подвижником. Своей скудной зарплатой библиотекаря делался по-братски со всеми, кто обращался за помощью, частенько довольствовался ржаным хлебом, селедкой, да крутым кипятком, чуть подкрашенным заваркой. Был счастлив, ибо жил по совести. Да и что значили радости богатеев и властолюбцев для человека, сознание которого соединялось с жизнью и разумом вселенной!
Русский космизм в трудах Н. Ф. Федорова достиг предельных масштабов: вселенское братство и любовь, свободный творческий труд, воскрешение всех людей и освоение человеком всех звездных миров. Опрометчиво считать это наивными выдумками. Недостижимое – не означает ненужное, напротив, порой оно совершенно необходимо для человека и очень полезно в конкретных делах. Полярная звезда и Солнце недостижимы; Бог недостижим и непостижим. Не станем же мы по этой причине отказываться от них.
Серьезные сомнения относительно его идей высказывал Вл. Соловьев. Есть ли смысл воссоздавать злодеев, подлецов, пошляков, паразитов? Вряд ли. Впрочем, сам Федоров пояснил, что воскрешение – не самоцель, а предпосылка к полному совершенству и всеобщему счастью. Он предполагал не умозрительное, а телесное воскрешение во плоти, ибо наука добьется "управлением всеми молекулами и атомами мира, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, то есть сложить в тело отцов". Сомнительно! Даже клонирование не поможет воссоздать из праха прежних людей.
Доводов против главной идеи космиста Н. Ф. Федорова много. И все-таки его концепция верна. Ведь речь идет об идеале. О мечте, зовущей к великим свершениям, сплачивающей людей в единое братство. Не обязательно стремиться к воскрешению плоти. Если каким-то поколениям удастся реализовать принципы Н. Ф. Федорова (свобода, труд, справедливость, братство), это уже само по себе оправдает все предыдущие жертвы и невзгоды.
В. Х. Кандинский
Виктор Хрисанфович Кандинский (1849–1889), описавший этот случай, не упомянул о причине столь странной для русского обывателя галлюцинации. Возможно, так подействовала на читателя сатира Ф. М. Достоевского "Крокодил" – о проглоченном крокодилом петербуржце. Этот образ могли пробудить и детские переживания при чтении притчи об Ионе, проглоченном китом.