О том, что происходило дальше, Оскар Рабин рассказывал: "Утром наша группка из четырех человек [в нее, кроме самого Оскара Рабина, входили Александр Глезер, Евгений Рухин и Надежда Эльская] спокойно села в метро на "Преображенской" и отправилась на место встречи. Я вез с собой две картины. Доехав, мы преспокойно отправились к выходу, и тут два человека преградили мне путь. Несмотря на уговор не вмешиваться, Глезер бросился ко мне на помощь. Нас сопроводили в милицейскую комнату и заявили, что я задержан на том основании, что у кого-то в метро украли часы, а по описаниям я похож на злоумышленника. Через полчаса явился какой-то тип в штатском и объявил, что подозрения не подтвердились и мы свободны… Когда мы наконец добрались до места, перед нами открылась панорама, которую я никогда не забуду. Под мелким дождем в жалкую кучку сбились художники, не решающиеся распаковать картины. Всюду виднелись милицейские машины, но милиционеров в форме было немного. Зато было много здоровенных молодцев в штатском с лопатами в руках. Кроме того, стояли бульдозеры, поливальные машины и грузовики с готовыми для посадки деревцами. Происходило нечто абсурдное. Художникам быстро объяснили, что власти решили именно в день выставки разбить на пустыре парк, поэтому все собравшиеся должны немедленно убраться восвояси" . Четыре года спустя Оскар Рабин решил съездить на пустырь, чтобы посмотреть, "хороший ли там разбит парк. Но никакого парка там не было. В точности, как и в день бульдозерной выставки, передо мной расстилался мрачный, грязный пустырь, на котором по-прежнему ржавели никому не нужные огромные трубы" . Все это происходило на окраине поля, граничащего с Профсоюзной улицей (нечетной стороной): после пересечения с улицей Островитянова, на месте нынешнего выхода на Профсоюзную улицу из последнего вагона со станции метро "Коньково".
Следует заметить, что трое художников – Василий Ситников (1915-1987), Борис (Борух) Штейнберг (1938-2003) и Анатолий Брусиловский, планировавшие принять участие в вернисаже в Беляево, впоследствии отказались выставлять свои картины. В итоге участниками выставки, позднее получившей определение "бульдозерной", стали Оскар Рабин и его сын Александр, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Игорь Холин, Евгений Рухин, Валентин Воробьев, Юрий Жарких, Виталий Комар, Александр Меламид, Надежда Эльская и некоторые другие (в книге, подготовленной А.Д. Глезером, отмечено, что "всего в выставке приняли участие 24 художника" ). Распаковав свои картины и, не имея возможности водрузить их на треножники, художники стали держать полотна на вытянутых руках. И началось то, что вошло в историю под названием "бульдозерная выставка": у художников начали силой вырывать картины, завелись бульдозеры… "Тут я увидел, что моя картина, разорванная, валяется в грязи, – рассказывал О.Я. Рабин Клод Дей. – Бульдозер, рыча, медленно двигался сквозь толпу, люди в страхе шарахались в стороны. Я разозлился и, бросившись наперерез, закричал: "Ну, давай, езжай, если хочешь!" Бульдозерист, не снижая скорости, вел машину. Тогда я уцепился за верхний край ножа и стал быстро перебирать согнутыми в коленях ногами по собранной бульдозером земле, чтобы меня не затянуло под нож. Тут мой сын и его друг Гена Вечняк бросились ко мне и тоже схватились за нож бульдозера. На секунду все оцепенели, потом к водителю подскочил человек в штатском и приказал ему остановиться. Однако тот то ли выпил, то ли был слишком возбужден, во всяком случае, он перепутал и, наоборот, нажал на акселератор. Бульдозер взревел и двинулся вперед, загребая землю и сгребая все в свое нутро. Я не знаю, чем бы это все кончилось, если бы один из американских корреспондентов, человек полный и обычно довольно флегматичный, вдруг не рванулся к шоферу и не выключил зажигание. Бульдозер остановился, "трудящиеся" подскочили ко мне и к сыну, чей-то голос прокричал: "Увести!" И нас со скрученными за спиной руками впихнули в стоящую рядом машину. Последнее, что я помню, была художница Надя Эльская, которая, взобравшись на огромную трубу, кричала, обращаясь ко всем: "Выставка продолжается!.." И еще я помню гигантскую двухметровую фигуру Жени Рухина, одетого, как и все мы, в свой лучший праздничный костюм, которого дружинники, крича и ругаясь, волокли по мокрой развороченной глине" . А.Д. Глезер утверждал, что было задействовано три бульдозера, что один из них переехал две картины О.Я. Рабина и что упомянутый журналист, впрыгнувший в бульдозер и заглушивший его, был канадцем . Валентин Воробьев не упоминает о картинах О.Я. Рабина, но пишет, что "видел одним глазом, как роскошная картина Мастерковой полетела в кузов самосвала, где ее тотчас же затоптали, как охапку навоза, а большую фанеру Комара и Меламида с изображением собаки Лайки и Солженицына неприятель разломал на дрова и подло бросил в костер" . Александр Глезер в изданной им "Синей книге", посвященной "бульдозерной выставке", поместил черно-белую репродукцию "погибшей под бульдозерами картины Оскара Рабина "Деревня"" . Непостижимым образом полотно появилось в апреле 2008 года на аукционе Gene Shapiro под названием "Пейзаж с коровой". Благодаря упоминанию о том, что именно эта картина экспонировалась на "бульдозерной выставке", работа была продана за 72 тысячи долларов ; в 2012 году она была воспроизведена в альбоме, который был издан к выставке О.Я. Рабина в Каннах , а совсем недавно, в апреле 2013 года, нынешний владелец этого полотна вновь выставил его на продажу .
На следующий день после разгона вернисажа его организаторы были судимы и приговорены к минимальным наказаниям: так, О.Я. Рабин отделался штрафом в двадцать рублей за "хулиганство". Будучи освобожденным непосредственно в день суда, О.Я. Рабин уже вечером отправился на прием в мексиканское посольство в честь Дня независимости этой страны, который отмечается 16 сентября.
Фотограф Владимир Сычев, на протяжении многих лет сотрудничавший с Оскаром Рабиным и другими художниками , успел зафиксировать "сражение" в Беляево и передать пленку иностранцам. Сделанные им снимки были опубликованы во многих зарубежных газетах и журналах, заложив начало героизации "бульдозерной выставки".
"Нам не оставили выбора. Помню, после очередной квартирной выставки меня вызвали в горком партии, – рассказывал О.Я. Рабин. – Там сидела строгая женщина, которая осуждающе посмотрела в мою сторону и сказала: "Что же вы, Оскар Яковлевич, в Союз художников СССР не вступаете? Скандальной славы на Западе ищете?" Я ответил, что с удовольствием вступил бы, так ведь не примут. Начальница окинула меня еще более укоризненным взглядом: "Вы попробуйте, а остальное – не ваша забота. Мы поддержим". Я честно написал заявление в московскую организацию Союза. Бесполезно! Даже высокое поручительство не помогло, официальное искусство отпихивалось от нас руками и ногами" .
"Мы планировали организовать нечто подобное еще на пару лет раньше, но долго откладывали решение, не отваживаясь на последний шаг. Было страшно", – признался Оскар Рабин в интервью журналу "Итоги" . В беседе с Юрием Коваленко он повторил: "Коленки дрожали. Мы понимали, что в любой момент власти что захотят, то и сделают. Потому что, с их точки зрения, такие художники, как я, занимались незаконной деятельностью. Властям не нравились картины, в которых они видели "буржуазное" влияние. А меня обвиняли в том, что черню жизнь, изображаю бараки и помойки. За это сажали литераторов – Синявского, Даниэля, а нас пока нет. Но мы понимали, что в какой-то момент это может случиться" . Вообще говоря, Синявского и Даниэля к тому моменту уже выпустили. Как известно, прозаик, эссеист и литературовед Андрей Донатович Синявский (1925-1997) и писатель и переводчик Юлий Маркович Даниэль (1925-1988), которые печатали свои произведения в обход советских цензурно-идеологических институций под псевдонимами на Западе, были арестованы в 1965 году, осуждены в 1966 году и приговорены к семи и пяти годам лишения свободы. Процесс вел лично председатель Верховного суда РСФСР (а позднее – председатель Верховного суда СССР) Л.Н. Смирнов. Несмотря на волну протестов в среде творческой интеллигенции в Советском Союзе и на Западе, осужденные литераторы полностью отбыли назначенные лагерные сроки, и в 1974 году оба были на свободе; более того, А.Д. Синявский к этому времени уже эмигрировал во Францию.
16 сентября 1974 года О.Я. Рабин, А.Д. Глезер, другие художники и их соратники составили "Обращение в адрес советского правительства". Выразив возмущение тем, что "поливальные машины разгоняли художников и зрителей мощными струями воды", а "бесчинствовавшие молодчики уничтожили с помощью машин и разожженных костров 18 картин", они объявили, что через две недели, в воскресенье, 29 сентября 1974 года, осуществят "сорванный злонамеренными людьми" показ своих картин на открытом воздухе в том же самом месте. Обращение завершалось следующим пожеланием: "Мы просим вас указать милиции и другим органам охраны порядка на необходимость не способствовать варварству и хулиганству, а защищать от него – в данном случае зрителей, художников и произведения искусства" .
За рубежом отклики на разгон вернисажа в Беляево были столь множественными, что советское руководство решило не препятствовать проведению выставки: в конце концов, художники не планировали демонстрировать в Беляево антисоветские по содержанию произведения, а на показ работ прибыли гости, приглашенные самими художниками, – их друзья и иностранные корреспонденты, так что назвать массовым это мероприятие было невозможно.
В сложившихся условиях власти позволили художникам провести вернисаж 29 сентября с двенадцати до четырех часов дня, но не в Беляево, а на поляне в Измайловском парке. Обещанные четыре часа относительной свободы были даны, вернисаж в Измайлово прошел без эксцессов. Выставку посетили тысячи людей, в основном молодых. Писатель и драматург Николай Климонтович, которому было тогда 23 года, справедливо отметил, что "на пороге взрослой жизни стояло поколение, рожденное в начале 1950‐х, которое, подобно юному поколению нынешнему, не хлебнувшему социализма, не помнило сталинизма. Тогда, в Измайлове, и произошла их первая не домашняя, а публичная встреча шестидесятников и будущих восьмидесятников" . По словам А.Д. Глезера, в этом вернисаже участвовали 74 художника, хотя едва ли можно назвать эту выставку под открытым небом победой над советской властью: художникам запрещалось выставлять "религиозные и антисоветские картины", "потому что никто из официальных лиц не хотел попасть в переделку. Цензуру проводили мы с Жарких", – рассказал А.Д. Глезер .

Статья в New York Times, опубликованная 16 сентября 1974 г. и посвященная разгону вернисажа в Беляево
В 1975 году пятнадцати московским художникам-нонконформистам, самым известным из которых тогда был О.Я. Рабин, удалось провести в двух залах павильона "Пчеловодство" на ВДНХ первую согласованную с властями групповую выставку своих работ . Эта выставка просуществовала десять дней. Небольшое и достаточно неприметное здание павильона, в котором никогда не организовывалось художественных выставок, находилось в глубине территории ВДНХ; власти одобряли проведение выставки, но стремились сделать ее организацию незамеченной.
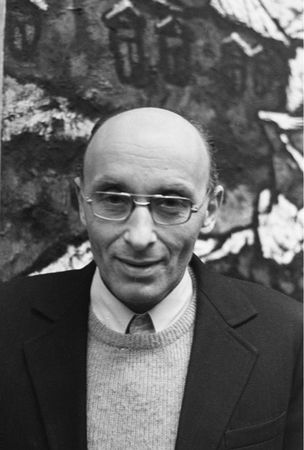
Оскар Рабин на выставке в павильоне "Пчеловодство", 1975 г. Фото Игоря Пальмина
13 февраля 1974 года из Советского Союза был выслан Александр Исаевич Солженицын (1918-2008), еще раньше разрешение на эмиграцию получил только вышедший на свободу Андрей Донатович Синявский; начиная с 1971 года, десятки тысяч людей – впервые в советской истории – ежегодно выезжали в Израиль (с конца 1973 года все большая их часть направлялась в США и другие страны Запада). Власти стали рассматривать эмиграцию своих идейных противников как приемлемое и вполне удобное решение проблемы. В 1975 году предложение уехать из страны было сделано Александру Давидовичу Глезеру, которому удалось переправить за рубеж большую коллекцию живописи и графики художников второй волны нонконформистского искусства, собранную им за десять лет (эти работы А.Д. Глезер на протяжении многих лет выставлял повсюду где мог, и он более, чем кто-либо другой, способствовал популяризации русских авторов во Франции и других странах Западной Европы и в США). Из инициаторов беляевского вернисажа в эмиграции оказались восемь человек, в том числе Виталий Комар, Александр Меламид и Василий Ситников, которые эмигрировали в США; Юрий Жарких, Валентин Воробьев, Лидия Мастеркова, Оскар и Александр Рабины переехали во Францию.