Широкое распространение в качестве оружия получили и боевые топоры, которые часто тоже украшались золотом или серебром. Топоры эти имели различную форму и размеры, некоторые из них делались с очень широким лезвием. Такие топоры имели длинную рукоять, чтобы, сражаясь, можно было держать их обеими руками. Копья тоже разнились по типам – некоторые служили только в качестве метательного оружия, другие больше напоминали алебарду, третьи использовались как тяжелое колющее оружие. Острия некоторых видов дротиков имели зазубрины. У колющих копий, разумеется, не было никаких приспособлений для того, чтобы затруднить их извлечение из раны. Отдельные разновидности этого оружия имели острия 15 и более дюймов в длину. В отрывке из "Саги Егила", повествующей о крупном сражении при Брунанбурге, приводится описание одного из типов колющего копья, применяемого как тяжелое орудие для пробивания доспехов: "…у него (Торольфа) также было в руке копье, наконечник которого имел в длину четыре фута, а острие было четырехгранным, нижняя же часть наконечника расширялась, переходя в длинное гнездо с толстыми стенками, куда вставлялось древко копья. Древко же не превышало в длину человеческой руки, но было очень толстым. В гнезде для насадки имелся штифт, а все древко оковано было железом".
Длинные и тяжелые наконечники копий использовались как для нанесения колющих ударов, так и для оглушения.
"Торольф, держа копье обеими руками, бросился вперед, разя им направо и налево, как дубиной. Воины врага разбегались перед ним, но он многих поверг на землю. Так он проложил себе путь к знамени Хринга, и ничто не могло противостоять ему. Он сразил воинов, стоявших у знамени, и перерубил древко. Затем он ударил копьем в грудь ярла (предводителя), пробив насквозь кольчугу его и грудь, так что острие копья вышло между лопаток. Он поднял тело ярла на копье над своей головой и воткнул древко копья в землю. Ярл испустил дух на копье, на виду у врагов и друзей".
Из всего множества норвежских копий до нашего времени сохранились только наконечники, но случайные находки в болотах или могильниках позволяют нам восстановить их внешний вид. Известная находка в болоте у селения Вимозе содержала свыше тысячи наконечников, но только пять полностью сохранившихся копий. Это сохранившееся оружие достигало в длину от 6,5 до 11 футов.
Норвежские луки делались из дерева: из вяза или, намного реже, из тиса – и обычно имели длину около пяти футов. Стрелы различались по длине, в зависимости от веса и размера лука. Древки стрел, найденных в болоте под Торсбъёргом, варьировались по размеру от 26 до 35 дюймов, имея при этом около полудюйма в диаметре. Самые длинные предназначались для значительного по размерам лука, причем тетива, по всей видимости, оттягивалась до самого уха, как это делали и английские лучники более поздних времен.
Норвежцы, ценившие поэзию и искусство стихосложения наравне с воинским искусством, дали много поэтических названий своему оружию и защитному вооружению. Так, мечи именовались, помимо прочего, "блеск битвы", "волк раны", "ненавистник кольчуг", "язык ножен", "огонь щита".
Копья получают в сагах поэтические имена – "трость Одина", "летучая змея", "летящий дракон раны". Боевые топоры, многие из которых были ужасным оружием – с широким лезвием, великолепно сделанные и украшенные, – превращались в поэтических строках в "ведьму шлема", "грозу щитов".
Стрелы именовались "градом битвы", "птицею лука", "летящим древком" и многими другими подобными названиями. Свои, порой весьма вычурные, имена имели и щиты: "укрытие битвы", "сеть для стрел", "стена битвы", "крыша жилища Одина". Brynjas получали такие имена, как "кафтан битвы", "камзол Одина", "волк копий", "вязанье войны" и др.
И совершенно естественно, что столь либимые викингами драккары тоже получали в сагах поэтические имена: "Олень прибоя", "Морской конь", "Сани морского короля", "Чайка фьорда", "Ворон ветра", "Морская цапля" и др. Само же море именовалось как "страна кораблей", "дорога морского короля", "ожерелье суши"; а ветры и шторма становились "убийцами кораблей", "волками парусов", "уничтожителями лесов" и т. п. Такими аллюзиями пересыпаны тексты саг, создавая специфическую смесь поэзии и варварства, в точности соответствуя природе викингов той отдаленной эпохи.
Физическая сила и искусство обращения с оружием, естественно, были весьма значимым фетишем для скандинавов, как и для всех полуварварских народов. Нет ничего удивительного в том, что в цивилизации, где физическая сила в большинстве случаев знаменовала собой право и где сила человека и искусство в обращении с оружием в значительной степени определяли его положение в обществе, воинская подготовка и атлетические упражнения занимали значительную часть времени подростка. Скандинавы взрослели очень рано, как и большинство людей тех лет. Шестнадцатилетний юноша уже вполне мог считаться испытанным воином.
Норвежцы, как представляется, обожали соревноваться только ради славы, хотя во многих состязаниях и устанавливались определенные награды. Саги буквально переполнены различными описаниями (весьма нудными, надо признаться) знаменитых прыжков или выстрелов либо повествованиями о необычайных соревнованиях в силе. Даже предполагая некоторые преувеличения, нельзя не признать, что они создают представление о чрезвычайно мужественном и стойком народе, привыкающем с колыбели переносить трудности и постоянно готовом к сражениям. Одновременно стремились не пренебрегать разносторонним развитием личности. Хотя человек мог оставаться незнакомым с чтением, письмом и счетом (да эти таланты, как правило, были ему и не нужны в жизни), хорошо воспитанный норвежец из хорошей семьи должен был быть в состоянии подыграть себе на арфе, распевая под ее звуки песню, которую он тут же сочинил по тому или иному случаю. Он также должен был знать на память длинные отрывки из различных саг, уметь играть в шашки и шахматы, загадывать и отгадывать сложные загадки, которые составляли, похоже, любимую забаву этого народа.
Бег наперегонки, скалолазание, прыжки, плавание и борьба были чрезвычайно популярны. Даже игры с мячом изобиловали такими жестокостями, что могли удовлетворить самых кровожадных зрителей. "…Игра была очень жесткая, и к вечеру шестеро из людей Страндира были мертвы, из людей же Ботна никто не пострадал; когда же стемнело, обе команды разошлись по домам".
Имеются в сагах и упоминания о менее жестоких ежедневных упражнениях. "…И на следующее утро братья занялись игрою в мяч и провели за нею весь день; они грубо толкали людей, и те грохались на землю, а кое-кого избивали. К вечеру у трех игроков были сломаны руки, а многие были искалечены…"
Даже невинные на первый взгляд развлечения вроде перетягивания каната могли закончиться серьезными травмами. "Король сказал: "Завтра в этом зале мы будем перетягивать над огнем очага овечью шкуру…" Король повелел принести им шкуру. Они стали тянуть ее каждый на себя изо всех сил, едва спасаясь от падения в огонь… Хьёрд сказал Хастиги: "Погоди, сейчас я потяну изо всех сил, и ты не долго проживешь". – "Проживу", – ответил Хастиги. После этих слов Хьёрд со всей силы дернул шкуру, и втянул Хастиги в огонь, и набросил шкуру на него; потом прыгнул ему на спину, а затем пошел к своей скамье…" ("Сага о Хьялматере и Ольверсе").
Плавание, так же как и бег и прыжки, часто происходило в полном воинском снаряжении.
"Затем он (Эгиль) взял свой шлем, меч и копье; он отломил древко копья и бросил его в воду; он завернул свое оружие в свой плащ, сделав из него сверток, и привязал его за спиной. Он прыгнул в воду и поплыл через залив к острову" ("Сага об Эгиле").
Разумеется, главным достоинством воина было его искусство в обращении с оружием. "Сага о Трюггвасоне" повествует о великом короле Олафе следующее: "Король Олаф во всех отношениях, кто бы ни говорил о нем, был величайшим в Норвегии знатоком оружия, он был самым искусным и самым сильным воином, и много повествований о его искусстве было записано… Он мог одинаково искусно сражаться обеими руками и бросать два копья зараз".
Про него также рассказывали, что он мог обежать вокруг драккара, ступая с одного весла на другое, которыми в это время продолжали грести, да еще при этом жонглируя тремя ножами. Сага полна описаниями великих подвигов короля, в которых он превосходит всех своих соперников в стрельбе, беге, плавании и скалолазании. Но и все великие военачальники и короли должны были побеждать в некоторых из этих видов единоборств – если бы они не были способны на такое, то быстро потеряли бы всякое уважение.
В большом почете было и метательное оружие, и в сагах мы постоянно встречаем повествования о выдающихся бросках дротиков и о стрелах, пущенных так, что они расщепляли другие, уже сидящие в мишени. Деяние, аналогичное трюку Вильгельма Телля, упоминается в ряде повествований, а в одном из них место яблока даже занимает орех.
Одинаково свободное владение мечом и копьем любой рукой было весьма полезным достоинством – неожиданный переброс меча из одной руки в другую часто приводил к решающему результату во время боя. "Сага о Фаеринге" повествует о некоем Зигмунде, который "показал свое искусство. Он подбросил свой меч в воздух и перехватил его левой рукой, перебросив щит на правую руку, и ударил Рандвера мечом, отрубив ему правую ногу ниже колена".
Подобно всем людям, находящимся на подобной ступени развития и культуры, норвежцы не сразу пришли к пониманию необходимости определенного строя для успешного сражения. Целью каждого честолюбивого воина было прослыть искусным бойцом. Как указывает один из авторов саг, это было нелегкой задачей среди людей, "одинаково храбрых и безрассудно играющих своими жизнями, искусно владеющих оружием".
Но уже начинало появляться что-то вроде общественного мнения, и случалось так, что местная знаменитость по части владения оружием становилась также и местной головной болью и порой была вынуждена искать себе место где-нибудь в не обжитых еще районах, предпочтительно в далекой Гренландии, подальше от доведенных до бешенства соседей.
"Во времена Хакона, приемного сына Ательстана, жил в Норвегии Бъёрн-Буян, который был берсерком. Он странствовал по всей округе и вызывал воинов на поединок, если они противоречили ему" ("Сага о Гисли Сурссоне").
"В стране (Норвегия около 1050 г.) считалось позорным явлением, что пираты – к этому времени слова "пират" и "викинг" стали считаться синонимами – и берсерки могут спокойно разгуливать везде, где хотят, и вызывать почтенных людей на дуэль, где ставкой бывают их деньги или их женщины, причем в случае смерти не платился никакой штраф. Многие из вызванных лишились денег и получили таким образом бесчестье; другие же лишились жизней. По этой причине ярл Эйрик запретил все дуэли в Норвегии и объявил всех разбойников и берсерков – возмутителей спокойствия – вне закона" ("Сага о Греттире Сильном").
Самыми ужасными воинами были берсерки (те, кто в бою сбрасывал все доспехи и сражался без serk, нательной кольчуги). Эти отважные воины, похоже, имели обычай при виде врага впадать в своего рода бешенство. Они завывали, изо рта у них шла пена, они кусали край своего щита и вводили себя в нечто вроде безумия, при котором они начинали считать себя – и их враги тоже – неуязвимыми. В какой мере эта ярость берсерка была истинной, а в какой – своего рода игрой, сказать невозможно. В любом случае психологический эффект оставался тем же самым. Безусловно, существует горячка боя, "кровавый туман", который в пылу битвы застилает сознание отдельных людей и придает им силы совершать такие поступки и переносить то, что в обычном состоянии они никогда бы не совершили. С другой стороны, мы узнаем из саг, что такая ярость порой охватывала берсерков без всякой видимой причины. Повествуя о двенадцати братьях, бывших берсерками, "Сага о Херварере" сообщает: "У них было заведено так, что когда они были только среди своих людей и когда они ощущали, что их охватывает неистовство берсерков, то они выходили на берег и сражались с большими камнями и деревьями, чтобы эта их ярость не обратилась на их друзей".
О двух берсерках, сопровождавших ярла Хакона, говорилось, что, "когда они приходили в ярость, они теряли свою человеческую природу и становились подобными богам; они уже тогда не страшились ни огня, ни железа, хотя в обычной жизни с ними вполне можно было иметь дело, если только не злить их".
Было ли бешенство берсерка вызвано неожиданным выбросом адреналина, или же это был искусный прием, нечто вроде психологической войны, но в конечном результате редко какой смельчак мог устоять против него. С другой стороны, как нам представляется, в ходе дуэли – если только противник перед началом поединка не был намеренно разъярен – преимущество всегда находилось на стороне хладнокровного, собранного фехтовальщика, а не того, кто пребывал в состоянии кусания щита. Как бы то ни было, берсерки считались опаснейшими соперниками, а знать и цари всегда старались иметь их в числе своих сторонников.
Постоянных армий у викингов, разумеется, не существовало, но каждый влиятельный землевладелец и знатный человек держал при себе столько воинов-дружинников, сколько мог себе позволить. Воинские качества таких дружин варьировались в зависимости от репутации и влияния их вождя. Знать и цари, знаменитые своими подвигами и щедростью, набирали лучших бойцов со всей Скандинавии. В залах их домов дружинники проводили зимние месяцы в пирах и празднествах, а с наступлением весны отправлялись в набеги или шли сражаться.
Естественным образом, прибытие нового воина далеко не всегда служило поводом к радости уже привыкших к своему положению героев. Ревность и заносчивость становились причиной многих поединков, и вождям и царькам приходилось зачастую силой удерживать своих дружинников от того, чтобы те не поубивали друг друга.
Когда же происходила формальная дуэль, то она могла быть одного из двух видов: в которой не существовало никаких правил и которая проводилась по строгим правилам. В дуэли первого вида каждый из противников мог сражаться любым оружием, которое он выбрал, и пользоваться своим щитом. Во втором виде дуэли было принято, чтобы перед каждым из участников его друг держал щит. В отдельных случаях (а правила, как можно предположить, постепенно менялись) было позволено использовать до трех щитов. Когда первый из них приходил в негодность, сражающийся брал второй щит и т. д. Поле, на котором происходил поединок, было ограниченным. Дуэль, как это описано в "Саге Кормака", проводилась на пространстве, в центре которого помещался плащ.
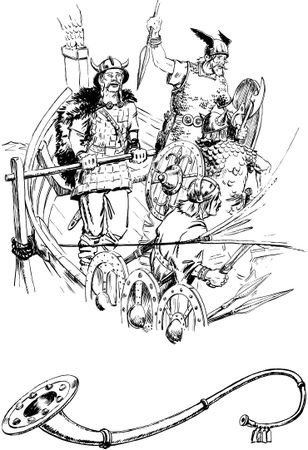
"Таков закон поединка, что плащ должен находится в 3 метрах от одного конца до другого, с петлями по углам, в которые должны быть вбиты колышки… Вокруг плаща должны быть начерчены три квадрата, каждый из них по 30 сантиметров в ширину. Снаружи квадратов следует разместить четыре лунки, называемые ореховыми лунками; и поле, огражденное таким образом, называется ореховым полем.
Каждый человек должен иметь три щита, и, когда один щит станет бесполезным, он может стать на плащ, даже если до этого он на него не вставал, и после этого защищать себя своим оружием.
Тот, кто был вызван, должен нанести удар первым. Если один из сражающихся будет ранен так, что кровь упадет на плащ, он не обязан продолжать поединок. Если кто-то из сражающихся станет одной ногой за пределами ореховой лунки, то будет считаться, что он отступил; а если он ступит туда обеими ногами, то будет считаться убежавшим. Один человек должен держать щит перед каждым из сражающихся. Тот, кто получит больше ран, должен заплатить компенсацию за освобождение от схватки в размере трех марок серебром".
"Торгилс держал щит перед своим братом, а Торд Арндисарон перед Берси, который ударил первым и расколол щит Кормака. Кормак ударил Берси таким же образом. Каждый из них разрубил по три щита своего противника. Затем был черед удара Кормака, он ударил, но Берси отвел удар своим Хфитингом. Скофнунг отрубил кончик клинка, и этот кусок упал на руку Кормака, ранив того в палец, и кровь из пальца оросила плащ. Поэтому судьи вмешались и не позволили им продолжать схватку. Кормак сказал: "Не много славы обрел Берси из-за того, что произошло со мной, думаю, сейчас мы разойдемся".
Из этого отрывка становится ясно, что поединок отнюдь не обязательно должен был закончиться смертью одного из участников. Все это действо имело вполне законный характер. Также (и это весьма важно) победитель не считался виновным в причиненном противнику ущербе и не должен был платить никакой "цены крови" – виры (штрафа). Более того, как повествует "Сага об Эгиле": "…если он будет побежден, то у него будет взято все его имущество, а тот, кто убил его, получит все его в наследство".
Многие из смертей, описанных в сагах, могут быть определены как преднамеренное убийство. И здесь снова на ум приходят параллели между Скандинавией тех дней и американским Диким Западом. Ведь все эти рыцарские обычаи, вроде: "Доставай свой револьвер, мерзкий вор, и мы посмотрим, кто из нас прав!" – являются сплошной выдумкой Голливуда. Если отпетые убийцы времен Дикого Запада (возведенные в ранг идолов американскими подростками) намеревались убить человека, то они убивали его без всяких выкрутасов вроде вызовов. А если их жертва еще и проявляла беспечность, держа руки в карманах и стоя к ним спиной, то тем лучше.
Во времена викингов подобные убийства – многие оправданные обстоятельствами – обычно вызывали цепную реакцию кровной мести, по сравнению с которой родовая вражда горцев из Кентукки выглядит просто милым воскресным чаепитием добрых соседей. Подобная родовая вражда была обычным делом в большинстве варварских и полуцивилизованных племен, и, чтобы избежать ужасных убийств – и потенциальной опасности для всего племени в результате уменьшения его численности, – в большинстве таких обществ существовала система выплат "кровных денег", возведенная в ранг закона и тщательно проработанная в зависимости от статуса убитого или раненого и степени причиненного ему ущерба.
В среде норманнов законы эти, регулирующие уплату штрафа, были одними из самых подробно прописанных. Ранение или убийство сразу же становилось делом всего рода; и уплата штрафа или же продолжение вражды зависели только от решения его членов.