Во время войны каждый зарабатывал, как мог. В поселке было много виноградников, и сосед, который незадолго перед войной вернулся в Украину из Америки, используя приобретенные предпринимательские навыки, стал делать вино и продавать его. Дела его шли неплохо, пока немцы не решили, что лучше вино просто брать, чем покупать.
Тогда он стал прятаться от навязчивых клиентов. Однако те не хотели мириться с потерей точки и пошли вразнос. Сначала они побили окна у соседа, а потом и в бабушкином доме. Когда бабушка начала возмущаться, самый заядлый, продолжая бить стекла, повторял:
– Терпи козаче – атаманом будешь!
Но когда понял, что так ее не успокоить, потянулся за автоматом. Бабушка говорила:
– Я не знаю, как так быстро получилось, – пока он снимал автомат и передергивал затвор, я пробежала две комнаты, и выскочила в окно. Еще и ставню успела захлопнуть. Немец выпустил очередь, с тех пор и дырки.
Бабушка рассказывала и улыбалась. Она всегда улыбалась, когда что-то рассказывала.
Поскольку эта местность формально находилась под румынской юрисдикцией, утром бабушка пошла к румынскому коменданту и рассказала о происшествии. Румыны болезненно относились к доминированию союзников и не упускали случая показать, кто в доме хозяин. Через два часа мучимый похмельем оккупант стеклил окна в бабушкином доме, злобно сопя. Наблюдая эту картину, бабушка протянула ему стакан воды и сказала: "Терпи козак – атаманом будешь!"
Немец рассмеялся и инцидент был исчерпан. А отверстия от пуль остались. Еще на пятьдесят лет…
Матка, благослови
– Когда советские войска уже наступали, – рассказывала бабушка, – к нам прислали группу молодых немецких солдат. Была ранняя весна, слякоть, холод. Каждый день крикливый ефрейтор выводил их на улицу и там, в грязи, они отрабатывали передвижение по-пластунски и прочие премудрости по полной программе.
Вечером бабушку просили нагреть воды, и до полуночи они стирали и сушили одежду, а утром все повторялось опять. Солдаты с недоумением спрашивали ее, почему-то по-польски:
– Matka, dookunta tai bende take bagno? [2]
Как-то ефрейтору это надоело, он подошел к бабушке с ночевками, бросил туда одежду и со словами "матка, ком" ушел по своим делам. Бабушка, ни слова не говоря (а что тут скажешь), взялась стирать. А надо сказать, у нее тогда было своих трое маленьких детей. Когда солдаты увидели это, они обступили предприимчивого товарища и после короткой, но выразительной сцены он забрал свое барахло и больше не отрывался от коллектива. Тем не менее мордой в грязь по его команде они падали беспрекословно.
Когда пришел приказ выступать, они собрались за час. Потом двое, самые молодые, забежали к бабушке в комнату, стали возле иконы и попросили:
– Матка, благослови.
Бабушка благословляла их и плакала. Немцы бросали в бой последние свои резервы и вернуться живыми у этих ребят шансов практически не было.
Бабушка говорила – "бідні діти". Сколько таких детей легло с обеих сторон…
Немецкий порядок
Так сложилось, что деревню буквально пополам пересекала железная дорога. Где-то там, далеко, был переход, но, конечно, им никто не пользовался. Все ходили через пути, хотя это строго запрещалось и там все время дежурил красноармеец. Даже совсем не либеральные сталинские законы не помогли навести в этом деле порядок, и все махнули на это рукой.
Когда в деревню вошли немцы, никто толком не почувствовал, что что-то изменилось. Фронт был далеко, и одни войска просто оставили населенный пункт, а другие, как это бывает, заняли его. Вместо красноармейца по путям стал прохаживаться немецкий солдат.
Под комендатуру отвели добротный дом на краю села. Поскольку он был на отшибе, там никто не ходил, и комендатура никому не мешала.
Под вечер на крыльцо вышел немец и прикрепил к двери комендатуры какой-то листок на немецком языке.
Утром первый, кто попытался перейти железнодорожные пути, был застрелен. В этот же день все знали, что на двери комендатуры висит приказ, что за хождение по путям – расстрел. До конца войны никому не приходило в голову его нарушить.
Наверное, в этом и состоит пресловутый немецкий порядок.
Карма
В доме напротив жила семья, как-то так получалось, что все мужчины в этой семье не доживали до преклонного возраста. Как принято говорить, жизнь у них была яркая, но короткая. Непонятно почему так, вроде не были самыми глупыми или самыми большими злодеями, но какой-то рок довлел над этим семейством.
Дед умер от белой горячки. Его сын провел немало времени в местах лишения свободы, сильно пил и умер достаточно молодым. Внук, неглупый и, в принципе, неплохой парень, тоже несколько раз сидел, болел туберкулезом, но умер позже от СПИДа, потому что наркотики в этой семье не переводились.
И только четвертое поколение удивительным образом изменило свою жизнь. В семье перестали рождаться мальчики и первая девочка, которая появилась, разорвала порочный круг. В таком ужасном окружении она хорошо закончила школу, рано пошла работать, закончила морское училище, была красивой, вежливой и тактичной. Ничего предосудительного о ней никто не мог сказать, не говоря уже об алкоголе или наркотиках. Никакая грязь к ней не приставала.
А все началось с того, что, как говорят очевидцы, приснопамятному деду поручили доставить двух пленных немцев на какой-то сборный пункт. Говорят, вечером он бродил пьяный по поселку и хвастался:
– Чого я буду їх водити? Я їх вивів за село та й постріляв, а потім покидав у канаву.
Женщины только качали головами. А потом с мужчинами в этой семье стали происходить всякие несчастья. До четвертого колена…
Вот она, эта курица!
Бабушка рассказывала много разных историй, связанных с Привозом. Рынок Привоз всегда был шумным и многолюдным, куча народа с утра до вечера делала там свой гешефт. Так было всегда – и в дождь, и в холод, и зимой, и летом, и в мирное время, и в войну. Привоз жил своей жизнью – жизнь эта не останавливалась никогда. Некоторые процессы там работали четче, чем на сталинской железной дороге, и даже когда город заняли румынские войска, он только слегка притормозил, присмотрелся к новым порядкам и завертелся с новой силой. Товарищи румыны понимали только две вещи – украсть и продать, поэтому от их появления Привоз только выиграл.
Торговали кто чем. Сосед, например, покупал на Привозе три мешка орехов, потом шел на Новый базар и продавал их "на баночку". К вечеру он возвращался домой, удвоив свой капитал. И это самый безобидный пример. Но вот правлению оккупантов пришел конец. В город вернулась Советская власть.
Бабушка рассказывает, что на следующее утро Привоз был совершенно пуст. Было так пусто, что видно было, как из одного конца в другой через площадь медленно переходит жирный привозный кот. Почему-то этот кот, медленно пересекающий Привоз, у меня впоследствии ассоциировался с абсолютной пустотой, типа безвоздушного пространства.
Но чуть позже уже все наладилось и следующее яркое воспоминание, связанное с этим местом, уже мое собственное:
Как-то утром к нам забежала наша соседка, Циля Давидовна, глаза ее горели, и лицо было пунцовым от возмущения.
– Вы знаете, Ксеня Лазаревна, – с порога начала она, – это Бог знает что такое. Вы не представляете, что сегодня творилось на Привозе. Ни одной, представляете – ни одной курицы! И все рыщут, рыщут.
Вдруг я смотрю, идет мужик, несет мешок курей. Я к нему, ну и все остальные тоже. Он их вытряхнул. Ну, не скажу, шоб ах, куры как куры. Но одна была такая чудесная курица, это что-то! И тут одна нахалка берет мою курицу… Вы не представляете, что тут началось! Я такого не видела. Люди потеряли человеческое лицо! Они дрались, плевались, царапались… Ужас!
– Вот она, эта курица!
Sic transit gloria mundi…
Место, где мы с бабушкой жили, называлось Лузановка. Оно и сейчас так называется. Мало кто знает, что это название, как и поселок Киселово, и Живахова гора, произошло от имен конкретных людей, которые имели непосредственное отношение к основанию города.
Много лет назад помещики Живахов, Киселев, а также генерал-майор Лузанов приобрели довольно много недвижимости в окрестностях Одессы.
Лузанов построил себе дом на горе с видом на залив, где внизу располагался известный впоследствии всей Одессе своей чистотой и просторностью лузановский пляж. С горы в хорошую погоду был виден порт и склоны Ланжерона. Дом Лузанова сохранился до сих пор. По сравнению со всеми последующими постройками и частными домами новых русских и новых украинцев, он смотрится более чем скромно. Когда произошел октябрьский переворот, господа, естественно, покинули родину. В том числе и Лузанов – уже не сам генерал-майор, а его потомки.
Все свое имущество его сын Михаил Фомич, последний глава одесского коммерческого суда, передал ключнице. Она по приходу советской власти продолжала заведовать хозяйством, теперь уже туберкулезного санатория, основанного на месте бывшей усадьбы. Как пострадавшую от империалистического гнета ее никто не трогал, а местное население по привычке побаивалось.
Председателем сельсовета назначили молодую девчонку, ее воспитанницу, – своих детей у ключницы не было. Славилась девушка тем, что могла пить наравне с мужиками, и при случае обписять с крыши сарая весь районный хозпартактив. За эту пролетарскую непосредственность ее и выбрали. Кстати, этот случай заслуживает отступления.
Дело было после очередного заседания актива, в котором принимала участие и пострадавшая от Лузанова молодая комсомолка – он нашел подкидыша и воспитывал на свои деньги. После того, как позаседали, решили выпить. А после того, как выпили, стали состязаться, кто дальше "добьет", так сказать. Девушку, естественно не приглашали. Она обиделась на такую дискриминацию по половому признаку и заявила, что она, между прочим, сделает это лучше всех, и даже добьет с крыши сарая до группы товарищей. Ну, забились, и комсомолка их таки достала. Отряхнувшись, партийцы решили, что это готовый председатель сельсовета. Так и случилось.
Впрочем, за исключением мелочей, человек она была неплохой, невредный и незлопамятный, и людям при ней жилось хорошо.
Естественно, с приходом советской власти хозяйство Лузанова частично забрали в колхоз, частично растащили. Но все, что удалось сохранить, ключница ревностно берегла. К тому времени у Лузановых существовал семейный склеп, тоже на берегу моря, вокруг которого со временем стало образовываться кладбище. Но могилы семейства Лузановых с другими было не перепутать. Они были огорожены небольшим каменным забором и обложены белым мрамором. Сверху на каждой могиле лежала толстая мраморная плита. На одной из них золотом было написано: "Здесь покоится прах генерал-майора Лузанова".
Ключница же получила много преференций от советской власти, как угнетаемый в прошлом элемент. А после войны, когда пришла пора определяться с загробной жизнью, завещала похоронить себя вместе с Лузановым.
Позже эти могилы раскапывали, в надежде поживиться. А потом украли и плиты – очевидно, применили где-то на столешницы у новых генерал-майоров. Уж больно плита была толстая…
Во время войны приезжал потомок Лузанова, и очень удивлялся, что это место все еще называется Лузановка. Так его называют и до сих пор, и могилы тоже стоят, но без плит. И наверно, даже старожилы не вспомнят, кто здесь похоронен. Sic transit gloria mundi…
Бабушка много еще чего рассказывала, но я уже не вспомню. В памяти все обветшало. А потом она умерла. Или как сказали бы японцы – ушла дорогой цветов… Бабушке это больше подходит. Она часто повторяла:
"Gott wollen ihre liebe zu freuen auf ihre wege rosen streuen" [3]
Скромное обаяние сослагательных наклонений
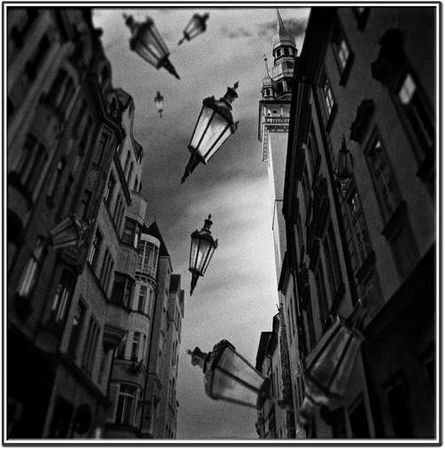
© Игорь Шистеров
Трудоустройство Краса
К моменту, когда я окончил институт с красным дипломом по дефицитной специальности "вычислительные машины, системы и сети", в стране окончательно все развалилось. Поскольку преподавание на кафедре приносило целых 10 долларов североамериканских штатов в месяц, довольно остро встал вопрос о том, где же заработать денег. Модным бизнесом тогда были поездки в Польшу и Румынию с целью распродажи всякого барахла, которое еще залежалось в хозяйственных магазинах или дома. Ассортимент был самый невероятный: радиоприемники, плащ-палатки, детские велосипеды, газовые баллоны, тетрадки, сладкие плитки, сахар…
Все это грузили в автобусы, перевозили через границу и реализовывали на местных базарах. Заработать можно было долларов 30–50, а то и 100 за одну поездку – зависело от товара.
Занимались этим преимущественно наши героические женщины. Молодые и симпатичные могли встретить там свою судьбу, ведь жили и спали все вместе в этих же автобусах.
И до того, и тогда, и позже у меня была одна слабость – я любил спать с комфортом. Мне не важно, что есть и как добираться, но вот по части ночлега… А это делало все предприятие абсолютно неприбыльным. Несколько лет спустя, впервые попав в Париж, я потратил почти все скудные средства, выделенные доброй тетушкой из оргкомитета конференции, на гостиницу с окном до пола в ванной, которое я открывал по вечерам и любовался огнями бульвара Лафайет. Но это совсем другая история.
А тогда я взял своего друга, старогерманскую овчарку Краса, и мы пошли искать работу. Когда-то на Пересыпи располагалось более двух десятков предприятий. Заканчивался забор одного, и начиналось ограждение другого. Там всегда требовались люди. Вообще же до перестройки в городе было около 200 работающих заводов, порт со своей огромной инфраструктурой и Черноморское морское пароходство, насчитывавшее более 200 судов. Не говоря уже обо всем остальном.
Мы переходили от забора к забору, и везде нас встречали мерзость и запустение. Некогда мощные и многолюдные гиганты советской индустрии стояли заброшенные и глядели на нас разбитыми окнами цехов. И лишь кое-где копошились какие-то кооперативчики, обеспечивая рабочими местами своих основателей. Так мы дошли до мясокомбината. Жирная рожа привратника наглядно свидетельствовала, что здесь не голодают. Нас подозрительно осмотрели, но когда разобрались, послали за старшим.
– Значит так, – вещал старший привратник. – Мы дадим зарплату – небольшую, но на жизнь хватит, конечно же, паек – куриные крылышки, ну, и там еще чего-нибудь. Работа посменная.
Все это он произносил, влюблено глядя Красу в глаза.
– А когда выходить? – спросил я.
Привратник недоуменно посмотрел на меня.
– А вы-то при чем? Мы берем на работу его, – и он сделал широкое вращательное движение рукой в сторону овчарки. Welcome, так сказать.
Я понял, что крылышек мне не видать, и Красу, по всей видимости, тоже. Это был первый урок: не только красные дипломы и какие-либо уровни IQ, но даже сама принадлежность к человеческому роду являются disadvantages в постперестроечной Украине.
Жить, правда, было можно, и даже неплохо. Особенно хорошо это удавалось разного рода привратникам, мошенникам, чиновникам и, конечно же, овчаркам – в широком смысле этого слова.
Цена вопроса
Помню, как я получил первую зарплату на кафедре. Мне заплатили тысячными купюрами. Были такие деньги на Украине – печатались на простой бумаге, без водяных знаков. Любая валюта гражданской войны была образцом криптографического искусства по сравнению с этими деньгами. Назывались они купоны. И почти каждый день печатались новые номиналы. Все, как только брали их в руки, спешили тут же обменять на какие-нибудь материальные ценности. Инфляция тогда могла составлять 10 процентов в день. И вот я получил на руки красивые оранжевые бумажки, восемь штук, зашел в дорогой комиссионный магазин и купил себе куртку за всю зарплату. Очень даже чудесную куртку, она до сих пор в гараже лежит. Помню, весь магазин собрался обсуждать: брать эти деньги или нет. Потом, конечно, приняли. Тогда и пришла впервые мысль, что всю эту валюту можно напечатать на цветном принтере – ни водяных знаков, ни даже номеров на этих дензнаках не было. Ну, наверное, и печатали…
Потом, перебирая в руках эти бумажки, подумал, что за пару мешков таких можно купить целый советский завод. Ну, наверное, и покупали…
Я же, вместо того, чтобы заняться печатанием купонов, продолжил поиски работы. Следующую итерацию я совершал уже без Краса. Так не очень красивая девушка никогда не берет с собой на свидание более симпатичную подругу.
Пришел на проходную очередного бывшего флагмана советской индустрии, где какое-то малое предприятие набирало себе сотрудников. Слово за слово, вышел я оттуда заместителем начальника отдела маркетинга. С зарплатой, в 10 раз большей, чем на кафедре, и свободным графиком работы. Целью этого малого предприятия была приватизация того самого завода, на теле которого оно паразитировало. Что, собственно, благополучно и было сделано. Приятно было работать с этими людьми: на зарплату они не скупились, в пайке не отказывали, а главное – остро чувствовали тех, кто способен помочь им проложить дорогу к личному благополучию.
Я все еще в своем любимом кафе на набережной Инглиш бей и мне мешает сосредоточиться английская речь, несущаяся со всех сторон. Кто-то обсуждает, как он купил дом за два миллиона, и выясняется, что это русский дядечка делится со своей азиатской подружкой. И русские, и азиаты зарабатывают деньги не здесь… От этого шума даже начинает болеть голова, но я мысленно возвращаюсь в далекие 90-е.
Итак, схема была простой и эффективной, как автомат Калашникова. Завод что-то производил. По условиям договора, он не мог самостоятельно ни закупать сырье, ни реализовывать продукцию. За него это делало малое предприятие. Завод платил налоги, зарплату, содержал помещения и так далее. Малое предприятие не платило ничего. Предприятие брало в долг сырье и отдавало его заводу по втрое завышенным ценам. В то же время оно забирало продукцию завода и по втрое завышенным ценам продавало ее потребителям. Долги завода росли, доходы малого предприятия росли пропорционально. Пока, наконец, не стало очевидно, что завод не рассчитается с долгами никогда. В этот момент все его имущество перешло в собственность малого предприятия, в счет погашения долга по остаточной стоимости.
Бывший директор завода все еще сидел в своем кабинете и грелся водкой, так как отопление ему отключили. В правлении руководители малого предприятия, попивая чаек, посмеивались и заключали пари, долго ли он еще высидит. В силу своей коммунистической экономической ограниченности он не сразу понял истинные масштабы происходящего, и за какие-то серебряники позволил ситуации развиваться. А когда понял – все еще надеялся, что печать и подпись помогут ему получить какую-то значимую долю. Но люди с деньгами в то время легко выходили на самый верх и решали все через голову. А деньги были не у него.