Таким образом, мы видим, что на рубеже 1929-1930 годов в Германии в результате кризиса сложились два мощных тоталитарных движения. Они включали в себя НСДАП и некоторых ее союзников из правого лагеря, а также КПГ, национал-большевистские группы. Два основных мифа питали эти движения: расово-националистический - преимущественно гитлеровское крыло НСДАП и отчасти ее союзники из правых партий, - и социалистический, пролетарский - КПГ, национал-большевики, штрассеровское крыло НСДАП.
Почему же победил первый? Во-первых, левый миф был ориентирован только на "народные массы", а расово-националистический - помимо "массы" и на группы экономической и военной элиты, которые он стремился если не поставить себе на службу, то хотя бы заставить занять нейтральные позиции; не последнюю роль здесь играл и внешнеполитический аспект - ориентация левого мифа на союз с СССР вела к подрыву национальной независимости и была неприемлема.
Кроме того, только НСДАП имела тоталитарного харизматического лидера - Гитлера. Дальнейшее, как говорится, история. Недаром книга главного национал-большевистского идеолога Германии Эрнста Никита, вышедшая в 1932 году и выдержавшая пять изданий, называлась "Гитлер. Злой немецкий рок".
Национал-большевизм в Германии представлял собой уникальное явление. Однако и в других странах существовали группы подобной ориентации. Вот лишь несколько примеров.
1. Швеция.
Шведская секция Коминтерна (т.е. Компартия Швеции) в 1929 году на X пленуме Исполкома Коминтерна была исключена из III Интернационала за "правый уклон". Ее руководство, во главе которого стояли два члена самого ИККИ - Нильс Флюг и Карл Чильбум, выступило против нового курса "класс против класса" и против неограниченного диктата Сталина. В начале 30-х годов эта исключенная организация объединилась с маленькой левой социал-демократической группой и приняла название Социалистическая партия Швеции. На всех выборах в 30-е годы она получала больше голосов, чем воссозданная сталинистами компартия.
Однако во 2-й половине 30-х годов эта группа, которая и после выхода из Коминтерна называла себя марксистско-ленинской организацией, проделала стремительную эволюцию к нацизму. Причем не только идеологически, но и чисто практически. Ее руководители поддерживали связи с германским посольством и получали от него деньги на издание своей газеты.
Недовольные этим Чильбум и другие лидеры партии вернулись в Социал-демократическую партию Швеции, в то время как Флюг (кстати, один из основателей Коммунистического интернационала молодежи) стал ярым нацистом, и в 40-е годы Социалистическая партия выступала как крупнейшая нацистская организация Швеции, пытаясь объединить все другие мелкие нацистские группы под своим руководством. В годы Второй мировой войны она подвергалась преследованиям со стороны шведского правительства за активную прогерманскую деятельность.
2. Италия.
Широко известен тот факт, что Бенитто Муссолини и подавляющее большинство главарей итальянского фашизма были выходцами из Социалистической партии Италии, причем из ее революционно-левого крыла Того самого крыла, на базе которого в Италии, как и в других странах, образовалась коммунистическая партия. Но гораздо менее известен тот факт, что многие коммунисты перешли в фашистское движение. Наиболее яркий пример - Николо Бомбаччи, один из основателей и фактических лидеров Компартии Италии начала 20-х годов. Он входил в Исполком Коминтерна, приезжал на все его конгрессы в Москву (кроме 1-го), встречался с Лениным. Вплоть до недавнего времени его тщательно вырезали со всех фотографий, где он был запечатлен рядом с Лениным. Как и Флюг, только ранее, он вступил в конфликт с руководством Коминтерна и, в конце 20-х годов, вернулся в Италию из эмиграции. В Италии он редактировал небольшой левофашистский журнал "Прометео" (левая фракция фашистской партии во главе с Джузеппе Боттаи, мало отличавшаяся по своей идеологии от компартии, активно действовала в Италии на протяжении 20-40-х годов). В 40-е годы Бомбаччи стал секретарем фашистской партии и, вместе с Муссолини, автором второго и последнего фашистского манифеста. Вместе с дуче он был и казнен.
Интересен и такой факт. Тайная террористическая группа в рядах фашистской партии, инспирированная Муссолини для расправ со своими политическими оппонентами и известная советским кинозрителям по фильму "Убийство Маттеоти", называлась, ни много ни мало, "ЧК из Виминале". Что такое ЧК - советскому читателю объяснять не надо. А Виминале - это ставшее нарицательным название министерства внутренних дел Италии.
В середине 30-х годов среди молодых левых фашистов сложилась группа так называемых "диссидентов", или "универсальных фашистов", которая группировалась вокруг сына Муссолини Витторио и очень восхищалась социалистическим строительством в СССР, особенно Сталиным. Папа Муссолини был очень недоволен, он разогнал эту группу, однако часть ее членов сразу перешла в компартию, а другие создали так называемую "Революционную Социалистическую партию" и перешли в ИКП после войны. Многие из этих фашистов-диссидентов входили затем в ее высшее руководство.
3. Франция.
Французский случай национал-большевизма особенно известен. Его основателем был Жак Дорио, рабочий-металлург, основатель и руководитель французского комсомола, а затем член Политбюро и секретарь ЦК французской компартии (ФКП), мэр "красного пригорода" Парижа Сен-Дени, часто попадавший в тюрьму за участие в разного рода беспорядках и поэтому весьма популярный в СССР. В начале 30-х годов он был конкурентом туповатого Мориса Тореза в борьбе за лидерство в партии, однако совершил непростительную ошибку. За полгода до того, как пришел приказ из Москвы, выступил инициатором политики Народного фронта, чем Торез и воспользовался, с позором выставив Дорио из партии. После чего тот создал так называемую "Народную партию Франции", которая своей структурой полностью копировала ФКП, только слово "коммунистическая" везде было заменено на "народная". Эта партия была одной из крупнейших фашистских партий в мире, сам Дорио активно сотрудничал с гитлеровскими оккупантами. Он приезжал на Восточный фронт подбодрить французских добровольцев, да и погиб во время бомбежки, одетый в форму офицера германской армии. А ведь р. свое время дружил с Лениным, Сталиным, Мао Цзэдуном.
В его организацию входили очень многие бывшие коммунисты, в том числе члены ЦК и Политбюро. Были во Франции и другие фашистские группы, созданные коммунистами. Тоже рабочий, как и Дорио, тоже член Политбюро и секретарь ЦК ФКП, третий человек в партийной иерархии, Марсель Життон, после подписания советско-германского пакта порвал с ФКП и создал Нацистскую рабоче-крестьянскую партию. Ему, однако, тоже не повезло. Он попал в список бывших депутатов-коммунистов, подлежащих уничтожению за протест против "пакта Молотова - Риббентропа". В сентябре 1941 года члены военной организации ФКП застрелили его в Париже. Сама французская компартия после начала Второй мировой войны выступила как предательская организация, выдвинув лозунг братания с германскими солдатами, свержения французского правительства и создания новой "Парижской Коммуны" из "патриотических элементов". Очевидно, подразумевались французские фашисты и сама ФКП. Торез и другие вожаки дезертировали из армии и сбежали в Москву, причем рядовым членам партии было разъяснено, что они руководят нелегальной борьбой во Франции. Неудивительно, что компартия подверглась заслуженным репрессиям. Многие ее активисты были интернированы, однако после прихода немцев выпущены на свободу.
ФПК пыталась сотрудничать с новыми властями и даже наладить легальный выпуск своей газеты "Юманите", постоянно пропагандируя идею "национального правительства". Только после 22 июня 1941 года, получив приказ из Москвы, она начала активную борьбу с оккупантами.
Можно сделать некоторые выводы.
Так как в идеологии национал-большевистского течения переплелись идеи левого (коммунизм) и националистического фашистского тоталитаризма, национал-большевизм позволяет найти несколько типологических особенностей обоих движений. Безусловно, это не политические партии, а именно тоталитарные движения, и для понимания причин их возникновения необходимо обращаться не только к социально-экономическим, но и вытекающим из них психологическим причинам.
Главное условие их возникновения - это тотальный кризис всех форм общественного уклада, осложненный переходом от одного типа государственного управления к другому (от авторитаризма к демократии, например). Второе условие - это резкое обострение национального чувства, вызванного унижением от катастрофического, тоталитарного поражения в войне. Третье - это наличие в данном обществе традиций этатизма и патернализма (т.е. победить тоталитарные движения могут отнюдь не в любой стране). Кроме того, необходимо наличие большой аморфной составляющей социальной структуры (граничащей с бесклассовостью). Человек в этом обществе находится в состоянии фрустрации, утрачивает положительную самооценку, лишается своего "я". Ему необходимо вновь обрести систему ценностей, так называемый "смысл жизни", и достаточно легко его обрести в каком-нибудь мифе. Миф может быть пролетарско-коммунистический, национальный и т.д., в том числе в качестве разновидности, например, национал-большевистский, что показывает, как легко переходить из одного мифа в другой.
Основная задача тоталитарного мифа - направить негативистскую энергию, собравшуюся в обществе, на создание некоего идеального мира в будущем ("новый порядок" - любимый термин как фашистов, так и коммунистов). Черни этот миф дает иллюзию участия в истории, а интеллектуалам видимость слияния с народом, нацией.
Этот миф должен быть:
• утопическим;
• его должен провозглашать некий вождь;
• необходимы некие мученики, погибшие за миф, некие образцы и примеры из истории (Парижская Коммуна, Фридрих II и т. п.), а также всевозможная атрибутика.
Для руководства этим движением, охваченным мифом, необходимы люди, обладающие художественными способностями, так как это безусловно квазиартистические движения. Причем основатели их должны быть людьми очень одаренными (типа Рериха или Толкиена), чтобы силой своего гениального воображения очаровать, привлечь к себе массы или, по крайней мере, большие группы людей (Карл Маркс, к примеру), а "фюреры" должны быть из не реализовавших себя в искусстве людей (Муссолини, Гитлер, Сталин, Троцкий, все без исключения лидеры национал-большевизма) - чувствуя свою творческую неполноценность, они лишь укрепляются в своей "вере". Кроме того, большую роль играет социальная и национальная неполноценность (Гитлер, Сталин, Жириновский и т. п.). Таким образом, это своеобразная "антиэлита" общества, которая существует везде и всегда, но лишь в период структурного кризиса, в обществе, отягощенном этатистским наследием, может быть социально опасна.
Что дает человеку участие в тоталитарном движении? Вопрос, как говорится, интересный. Купленные с потрохами правящими классами так называемые академические "ученые"-историки-культурологи-социологи и прочие, по меткому определению Руслана Имрановича, "дурачки, называющие себя политологами", обычно внушают населению, что участие в тоталитарном движении дегуманизирует человека, так как его фанатичная "вера" дает ему право на любое преступление, уводит его от реальной жизни, обманывает его, и поэтому, в результате, обрекает на гибель.
Независимые (от грантов и других форм подкупа) исследователи считают, что участие человека в тоталитарном движении придает его жизни подлинный смысл, возможность реализовать свои скрытые способности, обрести истинных друзей и реальные авторитеты, превратиться из жертвы закулисных манипуляций в творца истории.
Реализация тоталитарного мифа приводит к установлению тоталитарных режимов с общими чертами как для левого, так и для национального мифа:
1. Официальная, всеобъемлющая идеология, нацеленная на создание идеального порядка и нового типа личности.
2. Контроль за личной жизнью индивидов, подмена индивидуальных (зачастую интимных) интересов общественными.
3. Постоянное подавление любой оппозиции, особенно инспирируемой извне.
4. Иерархическая однопартийная система, требующая безусловного послушания, которое является проекцией послушания и иерархии в движении до прихода к власти.
5. Контроль за средствами массовой информации и образованием с целью постоянной мобилизации граждан.
6. Ликвидация традиционного буржуазного парламентаризма, при котором успех на выборах зависит от количества денег, а не способностей у кандидатов.
7. Автаркия и отказ в свободе выезда за границу.
8. Централизованная и плановая экономика с контролируемым потреблением.
9. Личная диктатура вождя.
И, по нашему мнению, допустимо предположить, что все эти качества, присущие гитлеровскому режиму, были бы с той же жестокостью осуществлены в Германии и руководством КПГ или революционными национал-социалистами и национал-большевиками, в случае их прихода к власти, для чего первые должны были быть менее зависимы от Москвы, а вторые более оригинальны, бесстрашны и активны.
А.Север
Глава 1. Мое знакомство с Гитлером
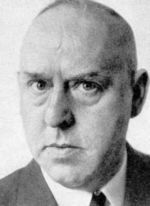
"Заходи к нам завтра на обед - будут генерал Людендорф и Адольф Гитлер... Я настаиваю на твоем присутствии, это очень важно".
Эти слова были произнесены моим братом в телефонном разговоре. Дело было в октябре 1920 года, когда я проводил отпуск с родителями в баварском городе Деггендорфе. Зная, что я не верю Гитлеру и его пропаганде, Грегор чувствовал мои колебания, но настаивал на своем. Согласие принять это приглашение стало поворотной точкой в моей жизни, определившей все мое будущее.
Какой молодой немецкий офицер упустил бы шанс встретиться с генералом Эрихом Людендорфом? В то смутное время, когда Германию захлестнул хаос, только абсолютно нелюбопытный человек мог отказаться лично познакомиться с Гитлером и попытаться понять, что он из себя представляет. Ведь уже тогда германская молодежь, которая стремилась творить новое будущее, начинала собираться под его знаменами.
Приглашение моего брата застало меня в критический момент моей жизни. Незадолго до этого я вышел из Социал-демократической партии Германии и как раз теперь мучительно пытался отыскать свой путь.
Шестью месяцами ранее в Берлине произошел знаменитый "капповский путч", во время которого я доблестно сражался на стороне Веймарской республики. Я командовал тремя "сотнями" берлинских рабочих, которым противостояли морская бригада капитана Эрхардта и части генерала Вальтера фон Люттвица. Эрхардт и Люттвиц хотели взять власть и установить реакционное правительство. Наши отряды (которые называли "красными", в отличие от "белых", реакционных, подразделений) потерпели поражение. Капитан Эрхардт, с триумфом вошедший в Берлин через Бранденбургские ворота и глядевший на поверженный город, обратился к Каппу, бывшему губернатору Восточной Пруссии, а теперь политическому лидеру мятежа, со словами: "Я поставил вашу ногу в стремя, а править теперь предстоит вам".
Законное правительство бежало в Штутгарт, и в течение трех дней путчисты праздновали свою недолговечную победу. Профсоюзами немедленно была объявлена всеобщая забастовка, и начались уличные беспорядки.
В районе Везеля в Руре произошли кровопролитные столкновения. Генерал Люттвиц, капитан Эрхардт и Капп бежали в Швецию. Социалисты (среди которых был и я) объявили, что они согласны сложить оружие при условии увольнения из армии реакционных элементов и проведения национализации тяжелой промышленности. Они подписали Биленфельдское соглашение с министром Северином и вышли из борьбы. Однако коммунисты не сложили оружия и продолжали вести свою кровавую борьбу. Для войны с ними правительство Веймарской республики без всякого стеснения использовало разгромленные им прежде войска Люттвица и Эрхардта. Когда же коммунисты были разбиты, лживое правительство отказалось от своих обещаний, данных социалистам, и заявило, что Северин не имел полномочий подписывать с нами соглашение.
Происшедшее поразило меня до глубины души, и в знак протеста я покинул ряды СДПГ. Разочарованный происходящими в Германии событиями, я чувствовал себя как корабль без руля и ветрил. Однако я оставался лидером левых студентов, изучал юриспруденцию и экономику и возглавлял движение студентов - ветеранов войны.
При этом жизнь в нашем доме текла так, как будто ничего не происходит. День следовал за днем в монотонной последовательности, и ничего не менялось со времен моего детства. Отец по-прежнему служил в городском суде; он все так же посещал воскресную мессу, а по дороге из церкви домой вел привычные еженедельные беседы о политике. Однажды он даже написал памфлет "Новый путь - очерк социального христианства", правда, без подписи; этим и исчерпывался круг его интересов. Моя мать старела, дом понемногу приходил в упадок.
Самый старший из моих братьев - Пауль - стал монахом-бенедиктинцем, младший брат Антон учился в закрытой школе. Грегор, который был старше меня на пять лет, был уже женат, а сестра замужем.
Предстоящая встреча сулила хоть что-то новое, и я с нетерпением ожидал ее.
От Деггендорфа до Ландсхута в Нижней Баварии, где жили Грегор и его молодая жена, было около 60 миль. Я прибыл на утреннем поезде, а от станции пошел пешком, любуясь чистым осенним небом. У Грегора была аптека на главной улице города, где собиралась вся местная аристократия. Я думал, что приду слишком рано, но с большим удивлением обнаружил, что железные ставни открыты, а перед домом стоит шикарный автомобиль. Должно быть, генерал Людендорф и Гитлер прибыли из Мюнхена на машине и опередили меня.
Грегор без промедления представил нас друг другу. Людендорф сразу же произвел на меня яркое впечатление. У него были крупные черты лица и волевой подбородок. Его твердый взгляд из-под густых бровей заставлял вас идти на попятную. Было видно, что, несмотря на гражданскую одежду, во всем его облике был виден генерал. Его железная воля ощущалась с первой же секунды общения. Его товарищ, одетый в синий костюм, сидел в кресле, и, казалось, стремился занимать как можно меньше места, как будто стараясь укрыться за широкой спиной генерала. Что я мог тогда сказать о Гитлере? Это был абсолютно незнакомый мне человек с правильными чертами лица и жесткими усиками. Ему шел тридцать второй год. В то время мешки под глазами, которые позднее стали столь заметны, еще только намечались. На его лице еще не лежала печать одухотворенности, и оно еще не приобрело знакомого всему миру выражения особой значительности. Гитлер казался обыкновенным молодым человеком. Его бледность свидетельствовала лишь о недостатке свежего воздуха и физических упражнений.
Мы перешли к завтраку. Людендорф вперил в меня свои инквизиторские глаза.
- Ваш брат рассказывал мне о вас, - сказал он. - Сколько лет вы служили?
- Четыре с половиной года, господин генерал, - ответил я. - Я был самым молодым баварским добровольцем. Три года я был рядовым, а полтора года - младшим лейтенантом и лейтенантом. Я служил в армии со 2 августа 1914 года по 30 июня 1919-го и был дважды ранен.