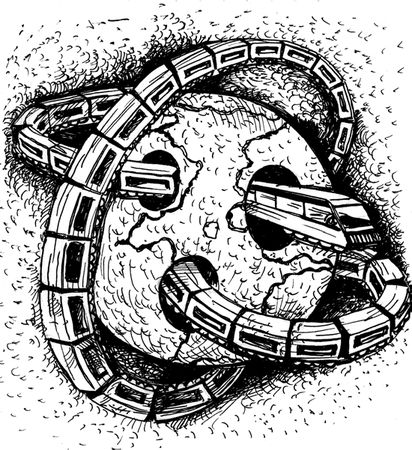Но и в начале XX века такая "булгаковская" квартирная идиллия – в основном удел обеспеченных горожан, притом чаще всего в Москве и в Петербурге, а не в провинциальных городах. Да и у них эта идиллия не так великолепна, как кажется! "Один в семи комнатах!" – тявкает Шариков на профессора Преображенского. А ведь если разобраться, и в квартире Преображенского из семи комнат две – нежилые (смотровая и операционная), а в остальных пяти живут не один человек, а четверо.
Обеспеченность одеждой
Да, конечно, в XVIII веке у императрицы Елизаветы было 15 000 платьев (великий историк В. О. Ключевский добавлял, правда: "И ни единой умной мысли в голове"). Но столько платьев в XVIII веке было только у одной женщины в России – у императрицы. Стоит взять широкие слои даже очень богатых дворян – и мы увидим совершенно иное.
Наталья Николаевна Гончарова была придворная красавица. Любимица императрицы и императора Николая I (как иногда утверждают, его любовница), первая красавица Москвы.
Должность обязывает. Первая красавица Москвы должна была блистать на балах, а для того нужны были наряды. Многие писатели обвиняли Наталью Николаевну в том, что она рвалась к светским развлечениям, хотела веселой светской жизни, требовала новых нарядов; тем самым она сломала жизнь своему знаменитому супругу, Александру Сергеевичу Пушкину.
Откровенно скажем: эти обвинения совершенно лживы. Жить в Петербурге Пушкину и самому было важно – чтобы наблюдать за публикацией своих стихов, общаться с издателями… К тому же знаменитый муж Натальи Николаевны очень любил, когда его жена блистала в свете, а потом уезжала с ним, с законным обладателем. Одевал жену вовсе не он, а богатая тетка Натальи, Екатерина Ивановна Загряжская.
Но вот любопытный сюжет: после смерти бабушки Наталья Николаевна получает две шубы… Одна – хоть сегодня надевай! Вторую приходится перелицевать – такой покрой вышел из моды. Платья тоже приходится перешивать по фигуре новой хозяйки, только одно совсем разлезлось… Приходится платье раскроить, хорошие куски ткани пустить на платьице дочери, скверные использовать в хозяйстве (на пыльные тряпки и заплатки). Но и с этого погибшего платья сняли пуговицы, чтобы перешить их на новое.
Так рачительно обходится с бабкиными шубами и платьями дворянка, владелица собственного имения, первая красавица Москвы, любимица четы императоров, жена величайшего поэта России.
Далеко не самая бедная и не самая обездоленная женщина в России.
Крестьяне и горожане были обеспечены одеждой еще хуже, и вовсе не только в России. Выходной костюм американца Тома Сойера назывался "тот, другой", "по чему мы можем судить о богатстве его туалета". А в теплое время года Том Сойер ходил босиком – нечего зря трепать обувь!
Рядовой человек стал лучше обеспечен одеждой после появления ткацких фабрик – в самом конце XVIII века. Дешевые ситцы сперва хлынули из Англии во весь остальной мир, потом стали производиться… фактически везде, по всей Европе. Ситцы из Иваново одели простонародную Россию в эти красивые и яркие ткани.
В начале XX века пластмасса дала много дешевых пуговиц любой формы и цвета – раньше-то пуговицы были только роговые или из копыт.
В середине XX века появился искусственный шелк. Нейлон, перлон, орлон, лавсан… Господа, в наше время практически каждая женщина может ходить, наряженная в шелка! Доходит до полного абсурда – когда после долгой, десятилетия два, моды на нейлоновые трусики и ночнушки вдруг выясняется – они же вредны для здоровья… И что тут делать нашим бедным дамам?!
Да, натуральный шелк дороже в несколько раз, но ведь и мы стали богаче. Даже натуральный шелк вполне доступен… ну, по крайней мере для среднего класса.
Для 70 % населения богатых стран Севера.
А главное – одежда вообще перестала быть проблемой. Совсем. В богатых странах даже как-то и неприлично слишком уж следить за одеждой. Выезжающие из России часто кажутся одетыми слишком вычурно, чересчур ярко и богато. Чего это они?!
В Берлине и Франкфурте в нейлон одеваются женщины одного сословия – проститутки.
Остальные одеваются в первую очередь удобно.
Да, у человека может возникать желание купить нечто более роскошное и дорогое, чем у него есть… Но это ведь уже не вопрос "нечем прикрыться". Это проблема другая – вопрос престижа, вопрос удовлетворения своих амбиций. Словом – вопрос удовлетворения потребностей второго порядка.
Потребности второго порядка
Разумеется, люди никогда не получат все, чего они хотят. Стоит удовлетворить одну потребность, как тут же станет важной другая. В этом и состоят потребности второго порядка – владение тем, что не необходимо, но либо приятно, либо престижно.
Стоит сделать что-то массовым, доступным почти всем, и тут же появляется нечто другое, чтобы служить признаком богатства. Что-то, что доступно не всем.
Решена проблема одежды? Но и одежда продолжает служить символом престижа. Все могут одеться, но не все могут купить платье "от Кардена". И – готово, общество опять разделилось на "владеющих" и "не владеющих". Одни имеют платья "от Кардена", другие – завидуют.
Дело ведь вовсе не в том, что эти платья невероятно красивые. Помню, как возмутился, увидев фотографию своей ученицы, сделанную на модном курорте в Египте:
– Наташка! Ты чего это разгуливала по Египту в ночной рубашке?!
Наталья возмутилась, стала вопить, что это вовсе даже платье и что его муж купил в Париже за большие деньги… Но хоть убейте – комбинация и комбинация. Причем ночнушка не первой свежести и не особенной прелести, не в обиду Наташеньке будь сказано.
Так же точно мало иметь автомобиль… Прошли времена, когда машина сама по себе была престижным символом. Теперь для того, чтобы возвыситься над остальными, "необходим" дорогой и модный автомобиль, который считается самым современным и красивым. Чем какой-нибудь "опель-ниссан" красивее и лучше "москвича" – я не пойму, наверное, никогда в жизни. Но ведь обладание "опелем-ниссаном", "ландкрузером" или "лексусом" и правда украшает жизнь владельца и делает его "важнее" и "главнее" владельцев "простых жигулей".
Другой вопрос – каким дураком надо быть, чтобы самоутверждаться через тряпки или железки.
Однако: все это потребности второго порядка! Такие потребности все время появляются новые и новые. Наверное, они будут вечно, и чем сытее будет общество, тем эти потребности будут становиться все причудливее и удивительнее.
Издеваясь над обывателем, Шафаревич в 1960-е годы писал про мечту московского сноба: про "стереофонический унитаз"… Это он так шутил, но стереофонические унитазы – уже есть. Что на очереди? Летающий унитаз? Или пикирующий?
Самое же главное: в обществе XXI века полностью удовлетворены не только все потребности первого порядка. Удовлетворены потребности второго порядка XIX и даже начала XX веков. Целиком.
Границы богатства и бедности
Конечно, богатство и бедность – очень условные понятия. В 1800 году среди дворян Российской империи считался бедным тот, у кого "всего" пятьдесят или сто душ, – то есть тот, на кого работало "всего" пятьдесят или сто человек. Среди крестьян считался бедняком тот, у кого не было лошади (а стоила лошадь 5 рублей – половину оброка).
И сегодня бедняк в США может показаться богачом в Китае, бедный предприниматель из Москвы кажется богачом в депрессивном райцентре.
Но критерии богатства все время возрастают. Стремительно.
Люди имеют все больше и больше. Чтобы считаться богатым, нужно иметь такие вещи, само существование которых показалось бы предкам чем-то скорее сказочным, чем реальным (автомобиль, телевизор, компьютер и так далее).
И мир в целом неизмеримо, несравненно богаче того, который мы оставили всего в 30–40 годах позади.
Глава 2. В мире невиданных возможностей
Скорости вокруг бешеные,
Мы едва себя сдерживаем.Николай Добронравов
О скоростях
Богатый человек XIX века имел свой выезд: в его персональной конюшне стояли 2, 3 или 4 лошади. Кучер ухаживал за лошадьми, запрягал их, подавал карету к парадному входу, барин ехал на работу, или вез семью в гости или в церковь.
Современный человек чаще всего ведет машину сам. Шофер – и дорого, и ненадежно. Но автомобиль имеет 40…60… 100… 150 лошадиных сил. "Выезд" современного человека – это целая конюшня богача X столетия. Рядовой человек начала XXI века имеет то, что имела кучка сверхбогачей XVIII столетия.
Более того – никакой барин, никакой вообще человек XVIII и XIX века, даже император любой из могущественнейших империй, не мог бы двигаться со скоростью 100 километров в час. Он не мог бы сесть в карету и помчаться так, чтобы приехать из Петербурга в Москву всего через несколько часов.
Скорости нарастают. В 1906 году роскошный "роллс-ройс" имел двигатель мощностью в 40 лошадиных сил. Еще в 1960-е мощность автомобильных двигателей была в 2–3 раза ниже современных. В 1980-е годы скорость в 100 километров в час казалась чрезвычайно высокой. Из Петербурга в Москву ехали все светлое время суток. Сегодня движение со скоростью 150–170 км в час вполне обычно. Часто скорость зависит не от возможностей автомобиля, а от качества трассы.
Так же растет скорость и всех других видов транспорта.
Первый паровоз Стефенсона в 1829 году двигался со скоростью около 20 км в час. Паровоз середины XIX века делал 20–30 км в час. В начале XX века – выдавал надежные 40 километров. Тепловоз 1920-х годов сразу же "выдал" 60 километров в час.
В 1905 году из Москвы в Красноярск ехали 8 суток. В годы моего детства ехали 4 суток. Сегодня скорость определяют не в сутках, а в часах: от 67 до 76 часов, в зависимости от расписания поезда.
А появились и сверхскоростные поезда. В 1972 году в Японии поезд между Токио и Йокогамой двигался со скоростью 200 км в час, и это признавалось чем-то исключительным, выдающимся. Сегодня такие поезда связывают основные центры Европы. Пересечь на поезде всю Англию за 2 часа, всю Францию за 3 часа – самое обычное дело. "Сапсан" между Москвой и Петербургом идет те же самые 3 или 3 с половиной часа.
"Ускоряется" и авиация. Самолеты 1920-х годов имели смотровые площадки. Во время полета можно было выйти из салона, постоять и покурить на свежем воздухе.
Современные самолеты в этом смысле менее комфортны, но еще в 1970-е из Красноярска в Петербург летели 7 часов, делая посадку в Нижнем Новгороде (тогда – в Горьком). Сегодня летят 4 или 4 с половиной часа, без посадок.
Сверхзвуковые самолеты "Конкорд" созданы уже в 1970-е годы, они летали со скоростью более 2 тысяч км в час. Их пришлось снять с эксплуатации после повышения цен на топливо и из-за неготовности большинства аэропортов принимать "Конкорды". Обледенела полоса, а сажать самолет становится некуда – поблизости нет полосы, способной принять такой самолет. Ненадежна, получается, инфраструктура, слишком ненадежно все… Но летать со скоростью более 2 тысяч км в час мы уже можем. И уверен, летать с такой скоростью мы еще будем.
Водный транспорт?
В 1869 году сошел со стапелей самый быстрый в мире парусный корабль – чайный клипер "Катти сарк", что в переводе значит – "Короткая рубашка". Если верить легенде, владелец клипера, Джон Уиллис, был очарован картиной, изображавшей ведьму в короткой ночной рубашке, летящей на шабаш. Он хотел назвать корабль "Морская ведьма", но суеверные моряки боялись плавать на корабле с таким названием. "Пришлось" назвать клипер более нейтрально, но носовую фигуру в виде ведьмы все-таки сделали.
Это было неправдоподобно скоростное парусное судно. В начале-середине XIX века до Индии плыли в среднем 5–6 месяцев, до Австралии – 6–8 месяцев. А клипер "Катти Сарк" привез с Цейлона чай нового урожая 1872 года "всего" за 122 дня. После построения Суэцкого канала клипер проходил из Австралии до Англии за 67 дней. Такая скорость и правда казалась чем-то "ведьмовским".
Сегодня самый большой в мире танкер, Knock Nevis (раньше он назывался "Happy Giant", потом "Jahre Viking"), выдает скорость порядка 22 км в час, делая в сутки порядка 450 км. Это далеко не самый скоростной корабль, а ограничения его эксплуатации тоже связаны с инфраструктурой: корабль с осадкой более 20 метров не может пройти через Суэцкий и Панамский каналы, его трудно поставить у пирсов.
Скорость же судов на подводных крыльях может превышать 100 км в час. На морях такие суда почти не применяются – опасны в случае шторма. А вот на реках они совершенно вытеснили медленно двигавшиеся теплоходы.
В 1900 году пароход проходил от Минусинска в верховьях Енисея до Дудинки в его низовьях за 8 дней. Обратно, против течения – за 12 дней. В 1965 году теплоход проходил то же расстояние за 4 дня и 6 дней соответственно. В 1960-е годы на теплоходах плыли, любуясь медленно разворачивавшимися по берегам красотами природы, молодежь плясала на палубе.
Теплоходы ходят по Енисею и сегодня – прогулочные суда, с борта которых удобно показывать туристам красоты великой реки. А скоростные суда проходят те же расстояния менее чем за сутки.
О расстояниях
Эти скорости совершенно изменили отношение к расстояниям. Вообще масштаб земного шара принципиально уменьшился для цивилизованного человека. В XVIII веке из Парижа в Берлин ехали 2–3 недели. Из Берлина в Петербург – те же верные 3 недели, а в весеннюю распутицу и дольше.
Европа казалась громадной, потому что проехать ее можно было только за недели и месяцы пути в карете или, зимой на севере, в санях. Дилижансы? Она ходили далеко не везде и к тому же были очень недемократичны по цене.
Система каналов, где идущие вдоль берега лошади тащили баржи? Тоже не быстро, не везде и дорого.
А в стороне от больших дорог, в считанных километрах, начинается глушь непролазных дорог, больше похожих на тропы. Во многих районах Европы – на плато Испании, на юге Италии, в Севеннах, юго-западе Франции, в горах Гарца, на большей части Прибалтики и Польши, в Шотландии, вообще нет хороших дорог. Ехать в те места – значит организовывать настоящую вооруженную экспедицию: волки, медведи, разбойники – вовсе не мифологические персонажи. Это позже истории про разбойников и волков стали казаться веселыми – именно потому, что волков можно стало увидеть в основном в зоопарке, а разбойников – в полосатой одежде и на строительстве дорог.
До XX века в глухих районах Европы ходили не очень приятные рассказы о чудовищных зверях и человекоподобных монстрах… И не все в этих историях вранье. В 1764–1767 годах (в середине XVIII века!) в самом центре Франции появилось чудовище: громадный то ли пес, то ли волк. Сколько сожрал людей "жеводанский монстр", не известно. Чаще всего упоминают 134 нападения, 55 из которых закончились гибелью жертв. Когда тварь наконец застрелили, голову и шкуру послали знаменитому Кювье, но и тот не мог определить, с чем имеет дело. До сих пор ведутся споры, что это было за создание – говорят даже, что это был саблезубый тигр, гигантская гиена или реликтовый, вымерший 40 млн. лет назад зверь креодон.
Даже вблизи городов, в хорошо освоенных людьми районах, до появления поездов двигались медленно. Имение, которое лежало в 30 километрах от города, – это имение, до которого день пути. Если ехать с семьей, тут целое приключение, сколько всего надо взять.
Все изменилось с появлением железных дорог. Королева Виктория сказала, что в Англии не должно остаться мест, лежащих больше чем в 10 милях от станции железной дороги. В невероятную глушь, в Баскервиль-холл, затерянный среди унылых, страшных болот, надо ехать около часу от станции… И правда – какая невероятная глухомань!
…А во времена, когда непутевый Гуго Баскервиль бесчестил фермерскую дочку и был пойман чудовищной собакой, из Лондона в тот же самый Дортмур ехали не считанные часы, а двое-трое суток. Россия до железных дорог тем более казалась неправдоподобно громадной, даже одна ее европейская часть. Месяц, а то и два месяца пути лежали между Архангельском и Азовом. В 1868 году Василий Суриков с "золотым поездом" ехал из Красноярска в Москву. Два с половиной месяца езды в санях… Устал ехать – идешь рядом с санями. Лошади ускорили шаг или устал идти – опять садишься. День пути по морозу, ночевка в душной тесноте протопленной избы, и с утра опять весь день движения…
В старости Суриков приезжал в Красноярск на поезде… Всего 8 суток езды, и не ты едешь или идешь, а тебя везут. Пьешь чай и спишь в удобном купе, обедаешь в вагоне-ресторане… Совсем другой уровень комфорта.
С ростом скоростей движения автомобилей и поездов стало "близким" то, что вчера еще казалось "отдаленным". Сто километров от города?! Еще 30 лет назад в такой глуши не мог поселиться человек, которому надо на работу. В наше время и 200 км – не расстояние. Два-два с половиной часов езды на машине, всего-то. В результате изменяется не только оценка расстояния, но и представления о масштабах города, и стоимость недвижимости. Маленькие пригородные городки, деревушки возле трасс вдруг оказываются прекрасным местом для жизни: до города-то рукой подать!
Перед самой Первой мировой войной знаменитый профессиональный охотник Хантер не стал покупать землю в тоже знаменитом кратере Нгоронгоро. Купил бы – стал бы богат – сейчас там находится заповедник Серенгети и отель "Тритопс", организующий "сафари" за баснословные деньги.
Но тогда до Нгоронгоро было не два часа автомобильной езды по хорошей автостраде, с кондиционером, а двое суток езды на волах по пыльной проселочной дороге, по африканской жаре.
Авиация и поезда сделали маленькими европейские страны. Из Берлина в Париж? 10–12 часов езды на автомобиле. Из Кракова во Франкфурт? 15 часов на автобусе.
Даже Россия стала "маленькой". Из Петербурга в Воронеж? Из Москвы до Ростова? Из Смоленска в Казань? 10–12 часов на машине. На поезде чуть подольше. На самолете – меньше трех часов летного пути… Рискуешь дольше ехать в аэропорт и потом из аэропорта в пункте назначения, чем лететь между аэропортами.