К другим увлечениям студентов относились занятия музыкой, которые посещались тем охотнее, что университетские учителя - пианист Шпревиц и скрипач Рачинский - были одаренными музыкантами. По субботним вечерам студенты и старшие ученики гимназии разыгрывали квартеты, здесь выступали и некоторые профессора-музыканты, (например, преподаватель курса военных наук Г. Мягков прекрасно играл на арфе). Вообще музыка занимала значительное место в жизни университета, и многие ученые и студенты посвящали ей весь свой досуг. После музыкальных вечеров младшие ученики играли в фанты или представляли тенями различные оперы и комедии, поскольку им ходить в театр не разрешалось.
Посещение театра и покупка книг, другие расходы заставляли студентов прибегать к дополнительным заработкам. Таких заработков в основном было два - частные уроки и переводы иностранных книг. Так, 3. А. Б урине кий, талантливый поэт, живший в университете вначале на положении казеннокоштного кандидата, а затем магистра и преподавателя, часто брал у книготорговца заказ на перевод романа, разрезал его на части и раздавал студентам. Готовую работу он вновь собирал и уже сам несколько сглаживал стиль, после чего возвращал перевод и раздавал полученные деньги поровну. Для многих студентов, не вполне хорошо знавших язык, процесс перевода заключался в утомительной монотонной работе со словарем, и его качество, конечно, было невысоким, но для заработка это не играло практически никакой роли, потому что при покупке рукописи книготорговец платил за количество листов или, проще говоря, по весу. При большом везении студенту удавалось преподнести свой перевод с дарственной надписью какому-нибудь богачу и получить за труды 100 рублей. Частные уроки тоже приносили не слишком большой доход; во многих московских дворянских семьях студентов нанимали в помощь иностранным гувернерам, на роль "Цифиркиных и Кутейкиных", и платили им по 2 рубля ассигнациями за двухчасовой урок. Только немногим талантливым студентам удавалось заслужить высокую репутацию и стабильный доход от уроков.
В 1808 г. новый инспектор Рейнгард предпринял попытку ограничить некоторые студенческие вольности, противоречащие новому уставу, но уже узаконенные обычаем. Прежде всего, он решил бороться с частыми отлучками студентов и для этого постановил, чтобы студенты имели общий стол в университете, за которым бы обедали в складчину. Для наблюдения за дисциплиной он постановил завести специальный журнал, куда его помощники будут заносить все сведения о поведении студентов. Сохранилось обращение инспектора к студентам, в котором он предъявляет к ним следующие требования: обязательное посещение лекций (которое отмечается в журнале), обязательное повторение предметов и письменные занятия в комнатах - с 7 до 12 и с 2 до 6 часов. Помощник должен отмечать, кто из студентов в воскресенье не был в церкви. Инспектор установил строгие промежутки времени для возможных отлучек: в учебные дни - от обеда до 2 часов, в воскресенье - после обедни и возвращение к ужину в 8 часов вечера, причем "пустые поводы" к отлучкам приниматься во внимание не будут. В 10 часов двери университета запираются, а все неночевавшие отправляются на другой день в карцер. На любые отлучки в неурочное время, а также на ведение частных занятий требуется специальное разрешение инспектора.
Трудно сказать, насколько эти попытки ужесточить дисциплину оказались успешными: цитируемые документы Рейнгарда относятся только к 1808 г. В находящихся здесь же письмах к попечителю Разумовскому инспектор выражает озабоченность дальнейшей судьбой студентов, заканчивающих университет. Он критикует сложившийся обычай, по которому казеннокоштный студент мог оставаться на жаловании по 6 и более лет, и пишет, что по вступлении в должность отослал старожилов по уездным училищам. С другой стороны, он совершенно верно замечает, что никто еще точно не определил, в чем состоят обязанности студентов по отношению к университету, шестилетний срок выполнения которых предусмотрен уставом. Местным училищам вовсе не требуется ежегодно такое количество учителей, да и притом некоторые студенты совершенно не приспособлены к преподаванию. Оставаясь же при университете, они занимают штатные места, которые не дают возможности доукомплектовать академическую гимназию.
Несмотря на строгие меры, которые пытался предпринять Рейнгард, студенческая вольница продолжала существовать. Ее скрепляли между собой пиры в складчину, по праздникам сборы у одного из товарищей, анекдоты, ученые беседы, общие гулянья на Воробьевы горы, в Сокольники и Марьину рощу и пр. На Неглинной проходили регулярные потехи - кулачные бои, в которых студенты университета, которым помогали местные лоскутники, сражались с бурсаками духовной академии - стенка на стенку, сначала маленькие, затем большие. Посмотреть на это зрелище стекалось много народу. Университетские побеждали чаще и гнали бурсаков до самого здания академии.
"Мы учились как должно, шалили как можно, а о прочем - ни о чем более не думали" - так завершает воспоминания о своей университетской жизни один из казеннокоштных студентов того времени.
Расположенный в самом центре Москвы, университет был тысячами нитей связан со всей жизнью города и ее особенным ритмом, характерным только для допожарной столицы. Каждое утро по длинным московским улицам к берегу Неглинной, напротив Кремля, где стоял университет, пешком, на извозчике или в собственных экипажах, неся с собой связку книг и тетрадей или передав ее слуге, гувернеру, а то и вовсе налегке стекались своекоштные студенты. С Троицкой улицы на Самотеке вдоль Неглинной всегда пешком со своим узелком на утренние и вечерние занятия шел Иван Снегирев, делая "верст восемь за день"; в тенистом переулке на Маросейке провожали на лекции Николая Тургенева; из старинной усадьбы у начала Кузнецкого моста, совсем неподалеку от университета, отправлялись на учебу князь Иван Щербатов и братья Петр и Михаил Чаадаевы; с аристократической Старой Басманной в коляске ехали их товарищи братья Перовские, а с противоположного конца города, из своего дома у Новинского предместья выходил Александр Грибоедов. Грибоедова провожал на занятия гувернер Готлиб Ион (когда-то геттингенский, а теперь, как и его воспитанник, московский студент), ученый француз Петра приводил на лекции юного Никиту Муравьева, а из одной из университетских квартир в сопровождении педантичного немца Рейнгарда шел в лекционную залу родственник Никиты и его будущий собрат по тайному обществу Артамон Муравьев, соседом которого, жившим на пансионе у беспечного Мерзлякова, был еще не освоившийся в Москве, застенчивый провинциал Иван Якушкин.
Карта студенческой Москвы охватывает весь город, сходясь лучами в одну точку, где располагается университет. (Интересно представить себе, как изменилась бы эта география, если бы исполнилось желание Разумовского перенести университет на окраину, в Лефортовский дворец!) Ее адреса называют нам самые роскошные улицы, дома и усадьбы дворянской Москвы. Именно здесь мы понимаем, насколько сильно изменился университет за десятилетие реформ, в результате которых он начал наполняться молодыми дворянами, придавшими, благодаря своему социальному статусу и привычкам, новые черты портрету своекоштного студента. По удачному наблюдению Н. К. Пиксанова, "создалось явление, которого не знал старейший русский университет в XVIII в. и какое скоро исчезло: в общей массе бедных студентов-разночинцев, поповичей, появилась блестящая группа представителей знатных, древних, богатых дворянских родов. Гувернеры, приводящие своих аристократических питомцев, просиживающие с ними на лекциях и присутствующие на экзаменах, студенты, для которых из деревни присылаются повар, лакей, прачка - это было оригинальное зрелище в допожарном московском университете".
Таким образом, говоря о повседневной жизни этой группы студенчества, мы должны сопоставить ее с времяпровождением, занятиями и привычками московского дворянства того времени, не забывая, что учеба накладывала на эту жизнь свой отпечаток, в разной мере для разных представителей беспокойного семейства воспитанников университета. Дворянская Москва до Отечественной войны 1812 г. была в полном смысле "барским" городом, противоположностью сановному Санкт-Петербургу. Здесь доживали свой век, удивляя город роскошью своих дворцов, огромными выездами в шестнадцать лошадей, золочеными каретами и проч., опальные фавориты предыдущих царствований. Московские праздники не знали удержу, богатство било через край. "Последние две зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы. Балы, вечера, званные обеды, гуляния и спектакли сменялись без передышки. Все дни недели были разобраны - четверги у графа Льва Кир. Разумовского, пятницы - у Степ. Степ. Апраксина, воскресенья - у Архаровых и т. д., иные дни были разобраны дважды, а в иных домах принимали каждый день, и часто молодой человек успевал в один вечер на два бала". Званые обеды начинались в 3 часа, балы между 9 и 10, и только "львы" приезжали в 11; танцы продолжались до утра. "В эти зимы впервые явилась в Москве мазурка с пристукиванием шпорами, где кавалер становился на колени, обводил вокруг себя даму и целовал ее руку; танцевали экосез-кадриль, вальс и другие танцы, и бал оканчивался à la grecque со множеством фигур, выдумываемых первою парою, и, наконец, беготней попарно по всем комнатам, даже в девичью и спальни".
А вот как выглядел такой бал со стороны, глазами одного из студентов: "Большой бал был у Высоцких. Кузины наши показывали мне свои наряды: кружева, кружева и кружева; есть в четверть аршина шириною. <…> Мы с Петром Ивановичем (магистр Богданов. - А. А.) ездили взглянуть на освещенные окна дома Высоцких. Вся Басманная до Мясницких ворот запружена экипажами: цуги, цуги и цуги. Кучерам раздавали по калачу и разносили по стакану пенника. Это по-барски. Музыка слышна издалече: экосез и а-ля-грек так и заставляют подпрыгивать". Наш мемуарист, хотя и не любитель танцев, однажды заглянул на званый вечер, куда явился как полагается в парадной студенческой форме и был очень польщен, когда одна из кузин спросила его, не камер-юнкерский ли на нем мундир - вот замечательная черта облика студента на балу! Кстати сказать, что парадный мундир для студентов (синий с малиновым воротником) и шпага, напоминавшие военную форму, вызывали резкие насмешки у стариков екатерининских времен: один из них говорил Жихареву: "В какой это ты, братец, мундир нарядился? В полку не мешало бы тебе послужить солдатом: скорее бы повытерли".
В отличие от стеснительного Жихарева, другой студент, Петр Чаадаев, в шестнадцать лет "слыл одним из наиболее светских, а может быть и самым блистательным из молодых людей в Москве, пользовался репутацией лучшего танцовщика в городе по всем танцам вообще, особенно по только начинавшейся вводиться тогда французской кадрили, в которой выделывал "entrechat" не хуже никакого танцмейстера; очень рано, как того и ожидать следовало, принялся жить, руководствуясь исключительно своим произволом, начал ездить и ходить куда ему приходило в голову, никому не отдавая отчета в своих действиях и приучая всех отчета не спрашивать".
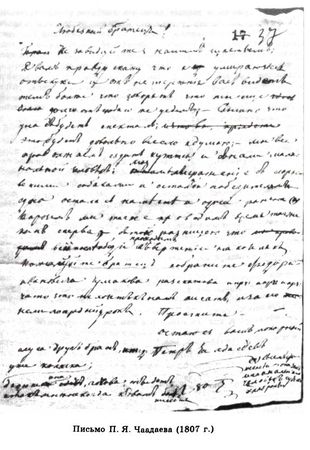
Москва гордилась своим расточительным, привольным гостеприимством; всегда был дом открыт для гостей "званых и незваных, особенно для иностранных"; в допожарной Москве можно было бесплатно обедать даже незнакомому человеку, просто переходя из дома в дом. Такое отношение особенно чувствовали студенты-дворяне, приехавшие из провинции, но, конечно, имевшие многочисленных московских тетушек. Один из них, живший на пансионе у университетского профессора, вспоминал впоследствии, что "в первом десятилетии этого века москвичи еще отличались хлебосольством и радушным приемом даже для дальних родных, приезжающих из провинции; бывало, в праздничный день несколько карет приезжало за нами, и нельзя было выбрать, куда веселее ехать".
"Обеды, ужины и танцы" являлись наиболее распространенной формой дворянского времяпровождения в Москве, но они не исчерпывали всех возможностей города. Важной частью московской городской культуры были народные гулянья, куда единой толпой высыпали все ее жители. Приуроченные к различным календарным праздникам гулянья кочевали из одного края Москвы в другой, из Марьиной рощи в Сокольники, на Пресненские пруды, Девичье поле и пр. За один вечер здесь возникали балаганы, где показывали кукольные представления, пантомимы, выступали силачи, фокусники, акробаты, великаны, карлики, "дикие люди", балаганный дед смешил публику острыми шутками. Разноцветными огнями вспыхивал под вечер фейерверк. Центральным событием года было гулянье на масленицу под Новинским предместьем. "В воздухе стон стоял. Во все горло выкрикивали свой товар разносчики; вертелись карусели, лошадки. <…> Стеной стояла чернь, жадно ожидавшая дарового зрелища, но и балаганы были переполнены благодаря дешевым ценам. Сюжеты спектаклей были обыкновенно патриотически-военного характера…" Особый конный праздник - карусель - больше других занимал москвичей, и о нем то и дело упоминают современники - в мае 1811 г. Батюшков пишет другу: "У нас карусель, и всякий день кому нос на сторону, кому зуб вон!"
"Модное гулянье" проходило на Тверском бульваре. "Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований: и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, какие лица!" Среди них Батюшков замечает, как "университетский профессор в епанче, которая бы могла сделать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную кафедру". А как же известные нам дворяне-студенты чувствуют себя в этой толпе? Оказывается, Жихарев не пропускает ни одного гулянья и называет их "блистательными". Николай Тургенев, несмотря на свой меланхолический характер, любит потолкаться в толпе с простыми "мужичками", из любопытства заходит в балаган на медвежью травлю, которую подробно описывает в дневнике. На Тверском бульваре он замечает, что иллюминированные вывески украшены стихами, которые по заказу пишет Мерзляков. 14 июля 1807 г. Тургенев посещает Сокольники, "где был общенародный праздник по случаю мира. Все поле было усеяно народом, и изредка были видны шатры, возвышенные места для комедий, где плясали по канату и проч., пели фабричные, цыгане, играла музыка". Картина восхищает Тургенева; всюду видна неупорядоченность, "приятная пестрота" и свобода, характерные для его восприятия Москвы.
Без сомнения, посещал московские гулянья, ее балы и праздники и студент Александр Грибоедов. Великая комедия, которую он напишет, вся пропитана впечатлениями этой барской, уходящей после 1812 г. Москвы: достаточно заметить, что гулянье под Новинским проходило возле самого его дома. Один из товарищей Грибоедова, В. Шнейдер вспоминает, что накануне Отечественной войны любимым местом их прогулок была Ордынка, где университетскую компанию можно было увидеть почти каждый день. Роль барина-покровителя для молодого Грибоедова взял на себя его дядя, Алексей Федорович, прототип Фамусова, что доставляло юноше немало беспокойства. "Как только Грибоедов замечал, что дядя въехал к ним на двор, разумеется затем, чтоб везти его на поклонение к какому-нибудь князь-Петру Ильичу, он раздевался и ложился в постель. "Поедем", - приставал Алексей Федорович. "Не могу, дядюшка, то болит, другое болит, ночь не спал", - хитрил молодой человек".