Спустя много месяцев последовало заключение: "От его пробы довольно видеть можно что оной Матвеев к живописанию и рисованию зело способную и склонную природу имеет и время свое небесполезно употребил… к которому ево совершенству немалое вспоможение учинит прибавление довольного и нескудного жалованья, чего он зело достоин". Борьба с нуждой - этот бич художников современники Матвеева слишком хорошо знали и старались отвести от талантливого живописца. В июне 1731 года Матвеев получил звание мастера и оклад в 400 рублей.
Как искать наследников?
И все-таки одно обстоятельство непонятно. Для пробы мастерства от художника требовали представлять портреты с известных экзаменаторам лиц - чтобы "персона пришлась сходна", но он не обратился к автопортрету. Почему? Ведь это облегчало бы задачу тех, кто давал отзыв, и избавляло самого Матвеева от необходимости писать новый портрет, тратя на него силы и время.
Но каковы бы ни были причины этого молчания, оно не нарушается и в последующие годы: автопортрет вошел в наследство художника. Что же делать дальше? Отказаться от поисков? Или… или искать наследников Матвеева.
Трамвай скучно колесит по тесно врезанным в дома улицам. В проемах ворот - очередь дворов, булыжник, зашитые чугунными плитами углы - от давно забытых телег и пролеток.
Около Калинкина моста сквер - пустая площадка с жидкими гривками пыли на месте разбитого бомбой дома и коричнево-серое здание - Государственный исторический архив Ленинградской области. Здесь особенная, по-своему безотказная летопись города - рождения, свадьбы, смерти - на отдающих воском листах церковных записей и "Исповедные росписи": раз в год все жители Российской империи должны были побывать у исповеди - обязательное условие обывательской благонадежности.
Серая разбухшая сшивка с шифром - и, наконец, в Троицко-Рождественском приходе двор "ведомства Канцелярии от строений живописного дела мастера Андрея Матвеева" с жителями. Среди жителей вся матвеевская семья - сам художник, жена его, Ирина Степановна. Под следующим годом повторение записи и последнее упоминание о художнике - в апреле Матвеева не стало. А дальше - дальше ничего, ни дома Матвеевых, ни сберегавшихся воспоминаний, ни просто семьи.
Жестокие в своей скупости строки тех же церковноприходских книг рассказали, что двадцатипятилетняя вдова поспешила выйти замуж. Холсты, кисти, краски Матвеева долгое время оставались в канцелярских кладовых "за неспросом". Новый брак - новые дети. Ирина Степановна рано умерла. Немногим пережили мать старшие дети художника, да иначе отцовские вещи и не достались бы Василию Андреевичу, младшему в семье. Ему-то и суждено было стать историографом отца.
Итак, все, что мы знаем о двойном портрете, стало известно от сына живописца в 1800-х годах. Именно тогда профессор Академии художеств, один из первых историков нашего искусства, Иван Акимов начал собирать материалы для жизнеописания выдающихся художников. Акимову удалось познакомиться с Василием Матвеевым, с его слов написать первую биографию художника. Если к этому прибавились впоследствии какие-нибудь подробности, их, несомненно, учел другой историк искусства, Н.П. Собко, готовивший во второй половине прошлого века издание словаря художников.
В прозрачно-тонком конверте с надписью "Андрей Матвеев" - анекдоты, предания, фактические справки, и среди десятка переписанных рукой Собко сведений - на отдельном листке, как сигнал опасности, пометка: не доверять данным о Матвееве. Что же заставило историка насторожиться? Присыпанные песчинками торопливого почерка страницы молчали.
Что же делать? Попробуем чисто логический ход. Без малого 70 лет отделяют рассказ Василия Матвеева от смерти его отца - крутое испытание даже для самой блестящей памяти. Правда, детские воспоминания зачастую сохраняют не стирающуюся годами четкость, но иногда подлинную, иногда мнимую. Василий же Матвеев и вовсе потерял отца двух лет. В рассказе его многое казалось странным.
Василий не называл отчества отца. Не знал или не привык им пользоваться? А ведь сын художника настаивал на дворянском происхождении Матвеева. Еще в петровские времена это предполагало обязательное употребление отчества. А как быть с романтическими историями детства живописца? При первой же, самой поверхностной попытке обе легенды попросту не выдерживали проверки фактами. Об этом, по-видимому, и думал Собко. Во всяком случае, его предостережение давало право на сомнения.
Путешествие по запаснику
…Если подниматься по парадной лестнице бывшего Михайловского дворца, где расположился Русский музей, то высоко под дымчатым потолком, между тяжело пружинящими атлантами, еле заметны полукруглые окна - глубокие провалы среди сплошь нарисованной лепнины. Кто, кроме специалистов, знает, что как раз за ними скрыт второй музей, многословная и подробная история живописи.
Надо пройти через несколько выходящих на фасад залов, огромными проемами открывающихся на сквер, свернуть в боковой коридор, долго считать пологие ступени в жидком свете колодца внутреннего двора, наконец, позвонить у запертой двери, и ты - в мире холстов. Нет, не картин, не произведений искусства - холстов, живых, кажется еще сохраняющих тепло рук художника, стоящих так, как они стояли в мастерской, где никто не думал об их освещении, выгодном повороте, развеске. Картина в зале - предмет созерцания, восхищения. Между тобой и ею стоит незримая, но такая явственная стена признания, славы, безусловной ценности. Не о чем спорить и не в чем сомневаться: история сказала свое слово. Картина в запаснике - совсем иное. Это твой собеседник, близкий, физически ощутимый. Ему жадно и нетерпеливо задаешь десятки вопросов, и он отвечает - особенностями плетения холста, подрамника, открывшимися надписями и пометками, кладкой красок.
На этот раз в моем путешествии по запаснику - от портрета к портрету, от художника к художнику - не было заведомой цели. Нет, наверное, все-таки была, тайная, неосознанная - дать волю поиску памяти. И через много часов, вне всякой связи с Матвеевым, случайная встреча: Екатерина II в молодости, с на редкость некрасивым, длинным желтым лицом, в острых углах выступающих скул, рядом с будущим незадачливым императором Петром III, ее супругом. Молодой мужчина, чуть поддерживая протянутую руку своей спутницы, будто представляет ее зрителям. Заученные позы, нарочито гибкие, танцевальные движения, великолепные платья - сходство с матвеевской картиной доходило до прямых повторов.
Опять-таки супружеская пара, но какая! Придворный живописец Елизаветы Петровны Георг Грот изобразил наследников императрицы - наследников Российского престола. Случайное совпадение композиционных схем?
Нет. Грот не повторял Матвеева. В западноевропейском искусстве подобный тин двойного портрета имел широкое, но специфическое применение. Это была форма утверждения будущих правителей государства в их правах - ее знал и использовал придворный живописец. Ее не мог не знать и воспитавшийся в Голландии Матвеев.
Платья и снова архивы
Так, может быть, совсем не случайна была встретившаяся мне как-то в архивном фонде историка П.Н. Петрова пометка по поводу матвеевской картины: "Государь с невестою"? Тогда она не привлекла внимания. Но теперь - после Екатерины II и Петра III, после Грота…
Можно ли представить, чтобы жена художника, в представлении XVIII века - и вовсе простого ремесленника, носила платье, которое изобразил Матвеев на двойном портрете?! Шелковистая, мягко драпирующаяся на перехваченных лентами и пряжками рукавах ткань, глубокий вырез, чуть смягченный дымкой газа по краям, - покрой, появившийся, и то лишь в придворном обиходе, в самом конце 1730-х годов.
Значит, нужно снова ехать в архив. Книги кабинетов Екатерины I и Анны Иоанновны - время, когда работал Андрей Матвеев, - в Центральном государственном архиве древних актов. Перечисление платьев - ткани, сколько ее нужно, на что именно. Рядом цены - фантастические даже для кармана императрицы. Так вот. Платье женщины на матвеевском портрете стоило много дороже тех 200 рублей, которые получал за год живописец.
Может быть, вымысел художника? Предположение резонное, но для XVIII века невероятное. Платье тогда - точный признак социальной принадлежности. За подобную вольность можно было дорого поплатиться. И Матвеев это знал.
Настоящий историк, Собко, очевидно, не смог пренебречь неожиданной пометкой Петрова. Но верно и то что Собко поверил Василию Матвееву, утверждавшему, что двойной портрет был написан в 1720-х годах. Поэтому в своих поисках царственных пар ("Государь с невестою") Собко ограничился Петром II и его двумя невестами - Марией Меншиковой, так поэтично обрисованной Суриковым, и Екатериной Долгорукой. Возрастное соотношение в обоих случаях соответствовало тому, которое наметил Андрей Матвеев, но все трое совсем не были похожи на молодых людей матвеевского портрета. И Собко признал пометку ошибочной.
Ожидание
Теперь репродукции двойного портрета стали неотъемлемой частью моего рабочего стола. Они смотрели на меня - черно-белые и цветные, "перезелененные" и "пережаренные", большие и маленькие, каждая на свой лад исправленные ретушерами. Смотрели и ждали. Партия отложена, и, возможно, в безнадежном для меня положении.
А что, если попытать счастья на той тропинке, которая никуда не привела Собко? Цена платья - она продолжала смущать. А что, если пренебречь точной датировкой? Может быть, она-то и ошибочна? Тогда та же формулировка "Государь с невестою" в следующем десятилетии будет означать иных людей. Это уже Антон Ульрих Брауншвейгский и принцесса Анна Леопольдовна, будущему сыну которых Анна Иоанновна завещала престол.
Внучка старшего брата и соправителя Петра, "скорбного главою" Иоанна, Анна Леопольдовна всю жизнь провела в России, принцесса по титулу, нахлебница по положению. Никто не был в ней заинтересован, никакого будущего ей не готовили. Пришедшее в результате сложнейшей политической игры решение о престолонаследии совершило чудо. Еле грамотная, обязанная образованием одному, да и то плохому танцмейстеру, Анна Леопольдовна - в центре внимания европейских дворов. Брак с ней означал союз - и какой союз! - с Россией. Правящая партия придирчиво выискивает претендента на ее руку, торгуется, выжидает момент, ставит все новые условия. Антону Брауншвейгскому милостиво дозволяется приехать в Петербург еще в 17,33 году, но до 1738 года он не знает решения своей судьбы.
Многое меняется за эти пять долгих лет и для Анны Леопольдовны. Подросток превращается в девушку, приходит и уходит первая любовь, растущая неприязненная подозрительность императрицы учит владеть собой. Брак с нелюбимым Антоном становится единственной надеждой на освобождение и независимое положение. Но внешняя декорация по-прежнему старательно соблюдена - принцессе оказываются все знаки почтения, ее портреты появляются в присутственных местах. Документы напоминали, что писать их приходилось и Андрею Матвееву.
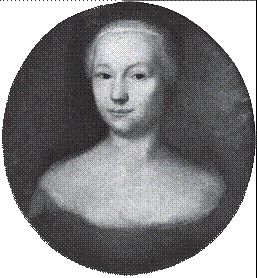
Анна Леопольдовна, будущая правительница России
Тем не менее встреча с Анной Леопольдовной оказывалась для меня совсем нелегкой. Пришедшая к власти в результате переворота Елизавета Петровна прежде всего позаботилась уничтожить изображения своей свергнутой предшественницы и ее сына, провозглашенного российским императором Иоанном VI. Конец бывшей "правительницы", как ее именовали документы, прошел в "жесточайшей" ссылке. Судьба Иоанна Антоновича, лишившегося рассудка в пожизненном одиночном заключении и впоследствии зарубленного, известна.
…Фонды музеев, издания портретов, гравюры - ничто не приходило на помощь. На вид простейшая задача - портрет Анны Леопольдовны - казалась почти неразрешимой. Впрочем, еще оставался запасник московского Государственного Исторического музея. Да, изображения Анны Леопольдовны здесь были, их было даже несколько, но в копиях позднейших лет, где ошибка и выдумка неизбежно накладывают свой отпечаток на облик человека. Исключение - портрет, написанный в 1732 году очень посредственным художником И. Ведекиндом.
Заурядное решение, но именно оно и нужно. Ведекинд добросовестно помечает конструкцию необычного лица с высоким прямоугольным лбом, запавшими щеками, характерным разлетом редеющих к вискам бровей и длинным, утолщенным на кончике носом. Это было удивительное сходство с женским лицом матвеевской картины. Его незавершенность сохранила более проявленной конструкцию лица, помогая пробуждающемуся узнаванию. Теперь, как никогда, нужно было найти документальное подтверждение прояснявшейся загадки.
Наконец-то!
И снова поездка в Ленинград. Снова высокий торжественный зал Государственного исторического архива. По окнам медлительными струями стекает спокойный дождь. Давно прошло лето, осень, другое лето, другая осень. Вопросы историков не знают быстрых ответов.
Теперь уже не одни протоколы Канцелярии от строений, а все сохранившиеся ее документы тех лет извлекаются из хранения. Чем занимался Матвеев, кроме основных живописных работ, насколько был связан со двором, как хорошо знала его Анна Иоанновна - дорога каждая мелочь. Матвеев пишет портрет Анны Иоанновны для триумфальных ворот, портрет в коронационном одеянии, портрет в белом атласном платье, портрет с арапчонком, портрет для Синода, портреты погрудные и в полный рост… Императрица не могла не знать художника. Вот и еще одна подробность: совсем незадолго до смерти он работал в ее личных покоях.
Февраль 1738 года - и, наконец, есть заказ! Мастеру живописных дел Андрею Матвееву поручается написать двойной портрет Анны Леопольдовны и Антона Ульриха: императрица утвердила кандидатуру жениха, летом должно состояться торжественное бракосочетание.
Значит, было так. Художник провел несколько сеансов с натуры, а потом дописывал портрет в мастерской. Но закончить его не успел: непосильная работа без выбора, забота о растущей семье, еле скрываемая нужда сделали свое дело - в апреле Андрея Матвеева не стало. Это и решило судьбу полотна.
К тому же брак Анны Леопольдовны был заключен. Портрет стал попросту не нужен, а с вступлением на престол Елизаветы Петровны и вовсе крамольным.
Не потому ли Канцелярия от строений не задержала его у себя? А наследники - наследники могли толком не знать случайно промелькнувших около престола лиц, да и не интересовались ими. Зато спустя 70 лет двойной портрет оказался как нельзя более подходящим для престарелого сына художника, лелеявшего фантазию о высоком происхождении отца.
Случайный вопрос. И на пути к его объяснению - вся жизнь Андрея Матвеева, настоящая, трудная, невыдуманная. И последняя, недопетая песня мастерства, таланта, человеческого прозрения - двойной портрет в зале Русского музея.
Из цесаревен младшая
Завещания не было. Точнее - не должно было быть. Все знали - Петр думал о старшей дочери. Откладывал венчание с надоевшим Голштинским герцогом. Толковал с Анной о государственных делах. Заставлял сидеть на советах. После шумной истории с красавцем Монсом Екатерине не приходилось рассчитывать на престол. Вместе с упавшей на плаху головой любимца рушились все ее и без того сомнительные надежды. Коронация вчерашней Екатерины Трубачевой имела совсем особую цель - Петр хотел узаконить положение ее дочерей рядом с ненавистным потомством царевича Алексея.
Но никто не сомневался - в предстоявшем розыгрыше решающее слово принадлежало царедворцам: на кого сделают ставку, кого поддержат. Трудно нацарапанные на грифельной доске слова одинаково могли быть правдой, легендой или полуправдой. "Все отдать…" - имя (стертое, стершееся, ненаписанное?) перед лицом наступающей смерти не имело значения. Приказ позвать Анну опоздал - ее искали так долго, пока не угас последний проблеск сознания.
Кто-то вспомнит о погребальных свечах - надо зажечь у постели. Кто-то позовет живописцев - пусть займутся последними (на всякий случай!) портретами. Кто-то распорядится попами - чтоб читали псалтырь - и захлопнет дверь за дочерьми: в них уже не было нужды. В соседней комнате (хрип умирающего - не помеха!) решается судьба престола.
Меншиков назовет Екатерину - ему ответит молчание. Тех, кто и думать не хотел о Катерине Трубачевой. Но и тех, кто знал последнюю, единственную волю Петра. Смолчит кабинет-секретарь А.В. Макаров - былая должность останется за ним! Смолчит духовник императора Федосий Яновский - ему слишком нужно первое место в синодских делах. Блеснувшие в дверях штыки преображенцев утвердят нежданную победу: "Да здравствует императрица!" После страха разоблачения, суда, развода Екатерина тем более не может не оценить оказанной услуги. Но Меншиков и сам не спустит цены. Завещание! Только завещание - в пользу его дочери и обвенчанного с ней сына царевича Алексея. О своих дочерях Екатерина должна забыть - сегодня они угрожают ее власти. Анна и Елизавета… Пусть (от злых языков!) займут место в очереди за Петром II и его потомством. Потомством Александра Даниловича Меншикова. И еще. Анну надо обвенчать - тем более голштинцы сумели заслужить неприязнь русских. И выслать в Киль. Но главное - чтоб никто и никогда не поминал ее имени.
Отправить в Устьвилюйское зимовье и содержать под крепким караулом и никуда и ни для каких нужд его не отпускать и смотреть за ним крепко, чтоб он над собою чего не учинил, или куда бы не ушел, а также не давать ему ни чернил, ни бумаги, и никого к нему не подпускать.
Приказ из Тобольской губернской канцелярии о ссыльном графе Санти. 1734
…А живем мы, он Сантий, я и караульные солдаты, в самом пустынном крае, а жилья и строения никакого нет, кроме одной холодной юрты, да и та ветхая, а находимся с ним Сантием во всеконечной нужде: печки у нас нет и в зимнее холодное время еле-еле остаемся живы от жестокого холода; хлебов негде испечь, а без печеного хлеба претерпеваем великий голод; и кормим мы Сантия и сами едим болтушку, разводим муку на воде, отчего все солдаты больны. А колодник Сантий весьма дряхл и всегда в болезни находится, так что с места не встает и ходить не может.
Из донесения подпрапорщика Бельского. 1738
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Санти Франц Матвеевич (1683–1758) - граф, уроженец Пьемонта. Состоял на службе у графа Гессен-Гомбургского, откуда был приглашен Петром I в качестве товарища герольдмейстера для сочинения гербов, в частности русских городов. В феврале 1725 г. назначен обер-церемониймейстером. В 1727 г. за участие в заговоре в пользу Анны Петровны сослан в Сибирь. Возвращен из ссылки Елизаветой Петровной в 1742 г.