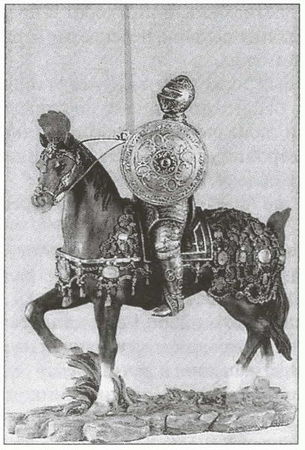Из замка Салобренья неизменно доносили, что царевны веселятся и забавляются, и царь ожидал, что в Альгамбре они возликуют. Но, к его удивлению, они заскучали, приуныли и всем были недовольны. Цветы не пахли, соловей мешал спать, а от фонтана с его непрестанным журчанием и плеском не было покоя ни днем, ни ночью.
Нрав у царя был крутой и вспыльчивый, и он поначалу вышел из себя, но потом рассудил, что дочери его вошли в тот возраст, когда женщины думают о многом и хотят еще большего. "Они уж не дети, - сказал он себе, - они взрослые женщины, их влечет и им подобает иное". Он порастряс всех портных, ювелиров, золотых и серебряных дел мастеров гранадского Закатана, и на царевен посыпались шелковые, атласные и парчовые платья, кашемировые шали, жемчужные и алмазные ожерелья, кольца, запястья, поножи и прочие всевозможные драгоценности.
II все понапрасну: разодетые и разубранные царевны томились и блекли, словно три привядших розовых бутона на одном стебле. Царь не знал, что и думать. У него был достохвальный обычай решать все по-своему и ни с кем не советоваться. "Однако ж причуды и прихоти трех девиц на выданье, - заметил он себе, - хоть кого поставят в тупик". И впервые в жизни он обратился за советом.
За советом он обратился к многоопытной и преданной дуэнье.
- Кадига, - сказал царь, - в целом свете вряд ли сыщется женщина рассудительней и надежней тебя, недаром же я до верил тебе своих дочерей чуть не с младенчества. А раз отец кому-нибудь такое доверяет, значит, это человек верный; вот я и хочу теперь, чтоб ты узнала, что за тайная немощь гложет царевен, и надумала, как вернуть им здоровье и веселость.
Кадига обещала все исполнить. По правде говоря, про немощь царевен она знала больше их самих и все же попыталась выведать у них еще что-нибудь.
- Деточки мои дорогие, что это вы так печалитесь и тоскуете в таком чудном дворце, где у вас есть все, что душе угодно?
Царевны грустно повели глазами и ничего не ответили.
- Ну так что же, чего вам еще хочется? Хотите, я достану вам чудесного попугая, говорящего на всех языках, от него без ума вся Гранада?
Пакость какая! - воскликнула царевна Заида. - Мерзкая визгливая птица, которая тараторит что на язык взбредет! Вот уж правда, надо быть без ума, чтоб такое выносить!
Или, может, послать в Гибралтар, пусть привезут какую-нибудь смешную обезьянку?
Обезьяну? Фу! - вскричала Зораида. - Что за противные кривляки! Терпеть не могу этих гадких животных.
А хотите послушать знаменитого черного певца Касима из марокканского сераля? Говорят, у него дивный женский голос.
Я очень боюсь этих черных рабов, - сказала нежная Зорагаида, - и потом, я мак-то разлюбила музыку.
Ах, нет, деточка, не говори так! - лукаво прищурилась старуха. - Слышала бы ты, как вчера вечером пели трое испанских кабальеро, которых мы, помните, повстречали на дороге. Но что с вами, деточки? Что это вы так закраснелись и всполошились?
Нет. нет, матушка, мы ничего, ты говори.
Да… Ну так вот, шла я вчера вечером мимо Алых Башен
и видела тех трех рыцарей, они отдыхали после дневной работы. Один играл на гитаре, и так красиво, а другие двое по очереди пели; прекрасно у них выходило, даже стража стояла, слушала, как зачарованная. Да простит мне Аллах! Поневоле трогают за сердце песни родных краев. И потом - уж очень печально видеть таких благородных и красивых юношей в цепях и в рабстве.
И добросердечная старуха отерла набежавшие слезы.
А нельзя ли устроить, матушка, чтоб и мы поглядели на этих рыцарей? - сказала Заида.
Немного музыки - это так освежает, - сказала Зораида. Стыдливая Зорагаида ничего не сказала, только обвила руками шею Кадиги.
Аллах с вами! - воскликнула благорассудная старуха. - Что это вы говорите, деточки мои! Если б ваш отец такое услышал, нам бы несдобровать. Конечно, рыцари они благовоспитанные и ничего худого не подумают, но что из этого? Ведь они враги нашей веры, и самая мысль о них должна быть вам ужасна.
Если женщина - тем более в опасном возрасте - чего-нибудь захочет, то любые страхи и запреты ей нипочем. Царевны повисли на своей старой дуэнье, улещивали ее, уговаривали и уверяли, что отказ ее сведет их в могилу.
Что ей было делать? Самая рассудительная на свете и преданная царю всей душою, могла ли она, однако, допустить, чтобы три прекрасные царевны сошли в могилу оттого, что им нельзя послушать игру на гитаре?
К тому же, сколько она ни прожила среди мавров, хоть и сменила веру вслед за госпожою, но все-таки была прирожденная испанка, и в сердце ее теплились какие-то христианские чувства. Вот она и постаралась ублаготворить несчастных царевен.
Христианских пленников, томившихся в Алых Башнях, стерег дюжий усач-вероотступник по имени Гуссейн-баба, у которого, по слухам, деньги липли к ладоням. Она тайком подошла к нему и прилепила к его ладони большую золотую монету.
Гуссейн-баба, - сказала она, - мои три царевны очень скучают взаперти у себя в башне; до них дошло, что три испанских кабальеро хорошо поют, и они хотели бы их послушать. У тебя ведь доброе сердце, ты им не откажешь в таком невинном развлечении.
Что? Чтоб моя голова скалилась с ворот этой вот башни? А ведь так и будет, если царь об этом узнает.
Совсем ему незачем об этом знать; можно устроить так, что и царевны будут довольны, и отец их ни о чем не догадается. Знаешь глубокую ложбину за стенами под самой башней? Пусть себе трое христиан там работают, а между делом, для отдыха, сыграют и споют, ты им просто не запрещай. Царевны услышат их из окошка, а ты внакладе не останешься.
Для пущей убедительности добрая старушка ласково пожала ручищу вероотступника, и к ней прилипла еще одна золотая монета.
Доводы ее подействовали. На другой же день троих кабальеро привели работать в ложбину. В полуденный зной, когда товарищи их трудов спали в тени, а страж клевал носом на часах, они уселись в густой траве у подножия башни и спели под гитару испанское ронделэ .
Овраг был глубок, а башня высока; но стояла полдневная тишь, и голоса их ясно слышались наверху. Царевны внимали с балкона; испанский язык они знали стараниями своей дуэньи, сладостная песня пришлась им по сердцу. Зато благорассудная Кадига была ужасно возмущена.
О Аллах! - воскликнула она. - Да они поют вам любовное признание! Какая неслыханная дерзость! Сейчас побегу к надсмотрщику, скажу, чтоб их как следует отколотили палками.
Как! Палками - таких доблестных рыцарей за такую чудесную песню!
Три прекрасные царевны пришли в ужас. Хотя добрая старушка и пылала негодованием, но по натуре была незлоблива и отходчива. К тому же музыка явно оказывала на ее питомиц целебное действие. Щеки их разрозовелись, глаза заблистали. И Кадига больше не прерывала любовных напевов рыцарей.
Когда они стихли, царевны немного помолчали; потом Зораида взяла лютню и нежным, дрожащим голоском пропела арабскую песенку, смысл которой был примерно таков: "Роза укрыта меж листами, но с негою внимает пению соловья".
С этих пор рыцари ежедневно работали в ложбине. Добрый Гуссейн-баба становился все покладистее и спал на часах все крепче. Влюбленные обращали друг к другу народные песни и романсы, слова их перекликались и выдавали обоюдное чувство. Потом царевны стали украдкой от стражи показываться на балконе. Разговор пошел с помощью цветов, язык которых был знаком тем и другим, а затруднения были по-особому упоительны и лишь разжигали страсть, столь нежданно возгоревшуюся, ибо любовь радуется препонам и пышно взрастает на самой тощей почве.
Увлеченные этим тайным общением, царевны совсем иначе глядели и держали себя, чем отец-левша был несказанно доволен, но больше всех ликовала и хвалила себя за предприимчивость благорассудная Кадига.
И вдруг немые переговоры оборвались: день проходил за днем, а рыцарей в ложбине все не было. Тщетно царевны выглядывали в окно. Тщетно выгибали они свои лебяжьи шеи с балкона, тщетно заливались песнями, словно соловьи в клетке, - их иноверцев-возлюбленных как не бывало, и кущи не откликались на пение. Благорассудная Кадига пошла разузнавать, в чем дело, и вернулась с омраченным лицом.
- Ах, деточки мои! - воскликнула она. - Чуяла ведь я, чем это кончится, да вы слушать ничего не хотели; вот теперь погорюете! Испанских кабальеро выкупили их семьи; они в Гранаде и готовятся к отъезду на родину.
Известия эти повергли трех прекрасных царевен в отчаяние. Заида негодовала, что их ни во что не ставят, что с ними даже не удосужились проститься. Зораида ломала руки и рыдала, смотрела в зеркало, утирала слезы и рыдала снова. Тихая Зорагаида склонилась с балкона и молча роняла слезу за слезой вниз, на цветы у края оврага, где так часто сидели непостоянные рыцари.
Благорассудная Кадига изо всех сил утешала их.
- Успокойтесь, деточки мои, - говорила она, - это все дело привычки. Так уж устроен мир. Ах! Вот поживете с мое, сами поймете, что за народ мужчины. Наверняка у этих кабальеро есть свои дамы, какие-нибудь испанские красавицы в Кордове и Севилье, они скоро будут распевать серенады под их балконами и думать забудут о прекрасных мавританках из Гранады. Так что успокойтесь, деточки, оставьте их даже и вспоминать.
Утешные слова благорассудной Кадиги почему-то еще умножали скорбь трех царевен, и они прогоревали два дня напролет. На третий день утром добрая старушка вошла к ним, сама не своя от возмущения.
- Какие все-таки бывают на свете бессовестные люди! - воскликнула она, когда к ней вернулся дар речи. - И поделом мне за то, что я помогала вам обманывать вашего почтенного отца. Чтоб я больше не слышала про этих испанских кабальеро!
- Как, что случилось, милая Кадига? - кинулись к ней насмерть перепуганные царевны.
- Что случилось? Измена! Она хоть еще и не случилась, но была уже мне предложена - мне, вернейшей подданной, надежнейшей дуэнье! Да, дети мои, испанские кабальеро посмели упрашивать меня, чтоб я уговорила вас бежать с ними в Кордову и выйти за них замуж!
Оскорбленная старуха уткнула лицо в ладони и разразилась слезами скорби и негодования. Три прекрасные царевны бледнели и краснели, краснели и бледнели, трепетали, потупляли взоры, робко взглядывали друг на друга и не говорили ни слова. А их старая дуэнья в безудержном горе раскачивалась взад-вперед, восклицая: "И я дожила до такого позора! Я, самая верная служанка на свете!"
Наконец старшая царевна, у которой хватало духу на всех трех и которая во всем была зачинщицей, приблизилась к ней и тронула ее за плечо.
- Хорошо, матушка, - сказала она, - а если б мы вдруг согласились бежать с этими испанскими рыцарями, - разве это возможно?
Добрая старушка на миг прервала стенания и подняла взгляд.
- Возможно ли? - отозвалась она. - Увы, еще как воз можно! Ведь рыцари успели подкупить Гуссейн-бабу, вероотступного начальника стражи, и все подготовили! Но по думайте только: обмануть отца! Вашего отца, который так мне всегда доверял!
Совестливую Кадигу снова одолела скорбь, и она опять стала раскачиваться взад-вперед, заламывая руки.
- Ну, нам-то отец наш никогда не доверял, - сказала старшая царевна. - Он полагался на замки и засовы, а мы жили пленницами.
- Да, в этом есть своя правда, - отвечала старуха, снова опомнившись от горя, - с вами он и впрямь обошелся очень дурно. В цвете лет вы томитесь в этой мрачной старой башне и вянете, словно розы в кувшине с затхлой водою. Да, но бежать со своей родины!
- А разве мы бежим не на родину своей матери, где нас ждет свобода? И разве не получит каждая из нас юного мужа взамен сурового старого отца?
- Да, это опять-таки сущая правда; и ваш отец, признаться, незавидного нрава, но подумайте… - И она опять впала в отчаяние… - Вы бежите, а я останусь на расправу?
- Да нет же, милая Кадига, ты разве не можешь бежать с нами?
- А ведь и верно, дитя мое; по правде-то сказать, Гуссейн-баба даже обещал, что я не пожалею, если убегу с вами; да, но, дети мои, неужели вы отречетесь от веры отца?
- Наша мать выросла христианкой, - сказала старшая царевна. - Я готова принять ее веру и ручаюсь за сестер.
- И опять верно! - воскликнула старуха, просветлев. - Да, ваша мать выросла христианкой и на смертном ложе горько сожалела, что отреклась от своей веры. Я ей тогда обещала, что позабочусь о ваших душах, и рада теперь, что они на пути спасения. Да, деточки мои, я тоже была крещена, осталась христианкой в сердце своем и решила вернуться к истинной вере. Я говорила об этом с Гуссейн-бабою, он родом испанец и даже почти что мой земляк. Ему тоже приспела охота повидать родные места и вернуться в лоно церкви; а рыцари обещали, что если мы станем на родине мужем и женою, то нуждаться ни в чем не будем.
Словом, оказалось, что эта чрезвычайно благорассудная и дальновидная старуха была в сговоре с рыцарями и вероотступником и целиком посвящена в план побега. Старшей царевне план сразу пришелся по душе, а сестры, как обычно, были с нею заодно. Правда, младшая все-таки поколебалась: она была послушливая и робкая, и дочерняя любовь боролась в ее сердце с нежной страстью, но страсть в таких случаях всегда побеждает, и она с тихими слезами и подавленными вздохами принялась готовиться к побегу.
Утесистая гора, на которой стоит Альгамбра, была когда-то вся пронизана подземными ходами, прорубленными в камне и выводившими в разные концы города и на берега Дарро и Хениля. В разные времена прокладывали их мавританские правители - на случай внезапных мятежей и для вылазок по своим тайным делам. Многие из них теперь и не сыщешь, другие известны и частью засыпаны щебнем, частью замурованы; они остались свидетельствами заботливой предусмотрительности и военной хитрости мавританских владык. Таким-то ходом Гуссейн-баба и собирался вывести царевен за стены города, где рыцари будут наготове с отборными скакунами, и они вмиг домчатся до границы.
Настала назначенная ночь; запоры башни царевен были проверены, и Альгамбра погрузилась в глубокий сон. К полуночи благорассудная Кадига выглянула с балкона под садовым окном. Вероотступник Гуссейн-баба ждал внизу и подал условный знак. Дуэнья привязала веревочную лестницу к перилам, сбросила ее другим концом в сад и спустилась. За нею с замирающим сердцем последовали две старшие царевны, но, когда настал черед Зорагаиды, ее охватила дрожь нерешительности. Она ставила свою легкую ножку в петлю лестницы и тотчас отдергивала ее, а девичье сердечко трепетало все сильнее. Тоскливо оглянулась она на убранный шелками покой: в нем она жила, как пташка в клетке, это верно, однако ж и была под защитой; кто знает, что случится, если выпорхнуть на широкий простор? Она вспоминала возлюбленного - и тянулась ножкой к лестнице, потом думала об отце - и отшатывалась. Но каким пером описать терзания сердца столь юного, нежного и любящего - и столь робкого и неискушенного?
Напрасно умоляли сестры, бранилась дуэнья и вероотступник богохульствовал под балконом: боязливая мавританка колебалась, как на краю пропасти, - ее манила сладость дерзновения и страшили неведомые опасности.
Тем временем все могло открыться каждую минуту. Издали донесся мерный шаг.
- Сторожевой обход! - вскричал вероотступник. - Еще не много, и мы пропали. Царевна, немедля вниз, или мы уходим.
Зорагаида пришла в невыносимое волнение, потом отвязала лестницу и с отчаянной решимостью скинула ее в сад.
- Кончено! - крикнула она. - Я уже не могу бежать! Сохрани вас Аллах всемогущий, милые сестры!
Две старшие царевны оцепенели при мысли, что покидают сестру, но обход близился и взбешенный вероотступник с дуэньей опрометью повлекли их к подземному ходу. Они на ощупь пробрались жутким лабиринтом сквозь недра горы и благополучно достигли железных ворот за пределами города. Здесь их дожидались рыцари, переодетые отрядными стражниками Гуссейн-бабы.
Возлюбленный Зорагаиды обезумел от горя, услышав, что она осталась в башне, но мешкать не приходилось. Царевны сели позади своих рыцарей, благорассудная Кадига примостилась за вероотступником, и они размашистой рысью помчались на Кордову, к перевалу Лопе.
Вскоре со стен Альгамбры донеслись перестук барабанов и клики труб.
- Побег обнаружен! - крикнул вероотступник.
- Скакуны у нас быстрые, ночь непроглядная, мы уйдем от любой погони, - отвечали рыцари.
Они дали шпоры, и скоро Вега осталась позади. Возле Эльвириной горы, отрогом выступающей на равнину, вероотступник придержал коня и вслушался.
- Пока что, - сказал он, - за нами никого нет, и мы уже почти в горах.
Не успел он договорить, как сторожевая башня Альгамбры сверкнула ярким пламенем.
- Беда! - крикнул вероотступник. - Этот сигнальный огонь взбудоражит все заставы на перевалах. Скорей! Скорей! Во весь опор - счет пошел на миги!
Они помчались по дороге, огибавшей кремнистую Эльвирину гору, и бешеный стук копыт перекатывался дробным эхом от скалы к скале. На скаку они видели, как в ответ на сигнальный огонь Альгамбры факелами зажигались atalayas - подзорные башни в горах.
- Вперед! Вперед! - кричал вероотступник и сыпал проклятиями. - К мосту! К мосту, пока там еще не всполошились!