Материал легче запомнить, если четко сформулирована цель деятельности. Человек, решивший арифметическую задачу, часто не помнит исходных чисел, хотя они были объектами его деятельности, но они входили не в цель, а в способы достижения цели. Попросите его самого придумать исходные числа для задачи, и, решив ее, он назовет их, не задумываясь. Запоминается лучше тот материал, который вызывает активную умственную работу. Это может быть, например, достигнуто и такой организацией системы учебных задач, при которой каждый полученный результат необходим для решения следующей задачи. Активная умственная работа с материалом помогает развитию способности укрупнять и оптимально организовывать запоминаемые единицы. Умение многих хороших шахматистов быстро запоминать шахматные позиции объясняется профессиональным умением их структурировать информацию, воспринимаемую с доски, они вмещают в одну структурную единицу больше фигур. Именно поэтому эта способность тесно связана с мастерством шахматистов.
Пересказ текста своими словами приводит к лучшему его запоминанию, чем многократное чтение, потому что пересказ - это активная, организованная целью, умственная работа. В одном эксперименте студенты были разделены на четыре группы. В первой - отрывок текста читали 4 раза, во второй - читали 3 раза и 1 раз пересказывали, в третьей - читали 2 раза и 2 раза пересказывали, в четвертой - 1 раз читали и 3 раза пересказывали. Содержание текста лучше всего запоминали студенты четвертой группы и хуже всего - первой.
Цель положительно влияет не только на эффективность запоминания, она обеспечивает определенную напряженность, которая удерживает внимание к материалу вплоть до достижения результатов. Б. В. Зейгарник [402] проводила изучение запоминания прерванных и законченных действий. Выяснилось, что прерванные действия запоминаются в два раза лучше, чем законченные. Предполагают, что этот эффект связан с отсутствием сигнала достижения цели из-за прерывания действия.
Если при обучении учащиеся получают задание на группировку исходного материала или его классификацию, то существенно улучшается последующее припоминание материала. Выявилась корреляция между числом классов, на которое испытуемые разбивали элементы ряда, подаваемого для запоминания, и эффективность припоминания. Обычно легко вспоминались примерно пять представителей каждого класса, поэтому, чем больше классов создают испытуемые, тем больше элементов они запоминают.
Понимание логической связанности материала способствует его запоминанию. Было установлено, что из 100 бессмысленных слов, предложенных испытуемым, запоминалось в среднем 43 слова, из 100 известных слов, не связанных по смыслу, - 58, а из 100 слов с логической смысловой связью - 68. Поэтому слабо связанный, логически не обработанный текст забывается значительно быстрее [155].
Приведенные способы облегчения запоминания были направлены на выявление внутренних связей в запоминаемом материале: смысла, логики, т. е. главного, центрального элемента, составлявшего цель деятельности, взаимоотношений отдельных элементов и групп.
Еще один способ, при котором для облегчения запоминания большого и сложного материала составляют его план, содержит в явном виде все упомянутые приемы. Составление плана или блок-схемы заучиваемого материала включает в себя разбивку материала на части, придумывание заглавий для них, определение связей. При чтении лекций полезно записать в верхнем углу доски план или схему лекции и обращаться к нему по ходу изложения темы. После окончания чтения лекций по курсу целесообразно попросить слушателей самостоятельно нарисовать схему курса, выделив на ней основные блоки и связи между ними. Наш опыт показывает, что после такого мероприятия быстрее формируется целостное представление о предмете.
Следует иметь в виду, что положительный опыт запоминается лучше, чем отрицательный, а отрицательный опыт - лучше, чем нейтральный. Запоминание зависит от самой эмоциональной окрашенности материала и независимо от знака эмоций способствует запоминанию большего числа фактов. Излагая трудный для запоминания материал, полезно сопроводить его своей эмоциональной оценкой, например поругать его или выразить удивление, удовольствие. Рассматривая целесообразность придания запоминаемому материалу личной, эмоциональной значимости, необходимо учитывать и обратную сторону влияния эмоций.
В работах А. Р. Лурия показано, что сильные эмоции препятствуют полноте запоминания, сужая поле внимания. Сильные эмоции и повышенная тревожность нередко служат причинами того, что на экзамене студент не может припомнить хорошо выученный материал. Когда он успокаивается, то обретает способность управлять своей памятью, однако любой дополнительный вопрос может снова спровоцировать затруднения. Все это вызывает у преподавателя ложное впечатление о плохих знаниях, тем более, что излагаемый материал под влиянием волнения может существенно трансформироваться. Трансформация проявляется в сглаживании, заострении и адаптации. Сглаживание приводит к сокращению текста за счет тех его деталей, которые в данный момент представляются несущественными, заострение - к увеличению масштаба тех элементов, которые теперь рассматриваются как наиболее существенные, а адаптация - к тому, что под влиянием изменившихся установок существенными становятся другие детали и поэтому весь текст может приобрести иное смысловое звучание.
То, что неудобные для нас факты легко забываются, произвело на Дарвина такое сильное впечатление, что он особенно тщательно записывал те наблюдения, которые шли вразрез с его теорией. Так как неприятные вещи забываются быстрее, целесообразно неприятную работу выполнять в первую очередь, пока память о ней не улетучилась.
Под влиянием эмоций может происходить и фальсификация воспоминаний. Человек стремится освободиться от неприятных воспоминаний. Неприятные, нелестные для данного лица события легко забываются и искажаются. Еще Фрейд [278] обратил внимание на активное забывание, связывая его с вытеснением события в подсознание, в связи с конфликтностью.
Мы рассмотрели ряд способов, повышающих эффективность долговременной памяти. Теперь обратимся к приемам, облегчающим работу кратковременной памяти. Повторение - основной метод удержания информации в кратковременном хранилище на время консолидации.
Исследование кривых забывания показало, что забывание происходит наиболее интенсивно в первые 6 часов после запоминания. Поэтому если информацию требуется запечатлеть надолго, то ее целесообразно повторять с такими интервалами: через 15–20 минут, затем через 8–9 часов и через 24 часа [155]. Раннее повторение возмещает быстрое первоначальное забывание, в то время как непрерывное повторение до полного запоминания неэкономично. Однако без надлежащего мотива даже многократное повторение не обеспечивает эффекта запоминания. Вот пример из жизни известного французского психолога Бинэ. Будучи неверующим, но женатым на очень религиозной женщине, он, не желая обижать ее, повторял за ней слова вечерней молитвы в течение многих лет, однако не мог воспроизвести их самостоятельно в отсутствие жены [259].
Для повышения успешности и точности запоминания необходимо учитывать темп введения новых сведений и фон, на котором происходит восприятие. Слишком быстрый темп приводит к наложению одних сведений на другие и искажению информации, поступающей на хранение. Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда материал вводится на фоне помех (радиопередач, работающего телевизора или магнитофона) - это ухудшает качество запоминания и существенно замедляет скорость обучения. Побочная деятельность сразу после введения важной для запоминания информации нежелательна по той же причине. В этом случае уместно вспомнить старинную рекомендацию - в особо ответственных ситуациях повторять материал перед сном, тогда ничто не сможет помешать консолидации.
В течение дня продуктивность памяти изменяется: между 8 и 12 часами утра она максимальна, после обеда заметно снижается, а затем вновь несколько возрастает. Поскольку в зависимости от индивидуальных особенностей эти общие тенденции сильно различаются, постольку полезно выяснить, какие временные интервалы наиболее благоприятны для вашей памяти, и учесть это.
Эффективная работа памяти обеспечивается механизмом забывания. С его помощью человек поднимается над бесчисленным количеством конкретных деталей и облегчает себе возможность обобщения. Мы записываем, чтобы забыть, а не для того, чтобы запомнить, с тем, чтобы разгрузить свою память от мелочей и оставить за ней только привычку заглядывать в записную книжку. Забывание - вовсе не признак плохой памяти или причина ее низкой продуктивности, а, напротив, один из важнейших компонентов хорошо работающего механизма. Приспособительная роль забывания отчетливо видна на таком факте: чаще жалуются на забывание люди, профессия которых связана с быстрой сменой используемой информации: репортеры, радио- и теледикторы.
Забыванием очень трудно управлять. Не удается произвольно забыть обиду, поражение, несчастную любовь. Это происходит потому, что, приказывая себе забыть, человек непроизвольно припоминает то, что хочет забыть, и тем самым укрепляет воспоминание. Поэтому сознательная заинтересованность в забывании только мешает делу. В жизни случаи забывания иногда связаны и с частичным выполнением намерения, когда именно запись ведет к забыванию. В этой ситуации запись действует почти как выполнение намерения, как разряжение напряжения. Человек надеется на то, что запись своевременно напомнит и этим ослабляет внутреннюю потребность не забыть.
Эффект запоминания повышается, если предлагаемый материал не перегружен аргументами. Излишнее уточнение может вызвать защитную реакцию и даже сопротивление. Напротив, вывод, сделанный самостоятельно, способствует удержанию сообщения в памяти. Чем больше уже известных фактов приводится, тем более предсказуемо продолжение, что вызывает у слушателя ощущение банальности. Вместе с тем, вводя в беседу элементы нового, нужно использовать оптимальную их дозу, так как абсолютная новизна озадачивает человека и не укладывается в его памяти.
Традиционное мнение, что запоминание - трудная работа, и обусловливало малую эффективность обучения. Разумное использование приемов запоминания помогает создавать новые методы обучения, включающие установку, мотивацию и снятие внутренних барьеров. Одним из таких методов является метод погружения, существо которого состоит в преодолении установки на трудность обучения (об этом подробнее будет сказано в разделе об активных методах обучения).
* * *
Итак, память представляет собой систему процессов и состояний, где информация организуется, обобщается и сохраняется определенное время. Важно подчеркнуть, что хранение неразрывно связано с преобразованием информации - ее упорядочиванием и классификацией по различным основаниям. Поэтому, обращаясь к своей памяти, нельзя рассчитывать найти в ней нечто в том же состоянии, в каком оно было в момент запоминания. Сохранение - процесс активный: новые сведения, взаимодействуя со всем остальным багажом памяти, приводят к изменению установок и мотивов и тем самым перестраивают все последующее поведение человека.
Мышление
О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый.
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя метет?
Ф. Тютчев
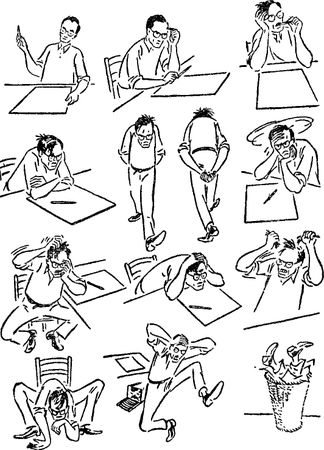
Допонятийное и понятийное мышление
Каждый из уже рассмотренных психических процессов по-своему способствует независимости восприятия от изменяющихся условий внешней среды. Как уже было показано, при восприятии сформируется образ объекта, который обладает существенной независимостью (константностью) от условий восприятия. Это свойство позволяет не только локализовать нечто в пространстве, но и ответить на вопрос: что локализовано и где локализовано, т. е. вычленить информацию о метрических характеристиках объекта и фона.
Активное движение - непременное условие формирования адекватного образа восприятия. С его помощью объект расчленяется, и информация о последовательности элементов поступает в память для анализа. По мере развития восприятия относительное движение воспринимающего органа (например, глаза) и воспринимаемого объекта постепенно замещается другим механизмом, который обеспечивает относительное изменение воспринимающего органа и объекта восприятия, но не с помощью механического перемещения, а посредством периодического изменения чувствительности воспринимающей системы [86, 88]. При этом адекватное восприятие становится возможным не только при неподвижном объекте, но и при неподвижном органе восприятия. Таким образом, снимается еще одно ограничение условий восприятия - необходимость взаимного перемещения субъекта и объекта. Замена механического перемещения эквивалентным изменением чувствительности существенно повышает скорость восприятия.
Следующий шаг в снятии ограничений определяется использованием информации о преобразованном в памяти образе восприятия, вызываемом из нее для принятия решения - вторичном образе или представлении.
С развитием вторичных образов появляется возможность устанавливать между объектами уже более сложные отношения, чем в восприятии. Формирование вторичных образов и сохранение их в памяти снимают следующий пласт ограничений, позволяя человеку представлять себе не только "лица" вещей, но и их "спины", не только во время их предъявления, но и тогда, когда их здесь нет, и не только те, которые человек когда-то видел, но и те, которые входят в обобщенный портрет класса объектов, синтезированных в представлении. Кроме того, становится доступным прошлое и будущее, можно вспомнить прошедшие и экстраполировать будущие события, т. е. свободно перемещаться по временной шкале в определенных пределах. В этом смысле представления создают принципиальную возможность существенно раздвинуть пространственные, временные и связанные с личным опытом границы в отражении мира.
Однако лишь при развитии мышления психика человека совершает такой качественный скачок, который позволяет вообще снять границы воспринимаемого, представляемого и вспоминаемого. Только с помощью развитого мышления человек преодолевает пространственную ограниченность восприятия, он может устремляться мыслью в необозримые дали и микромир. Снимается и временная ограниченность восприятия - возникает свободное мысленное перемещение вдоль временной оси от седой древности к неопределенному будущему.
Мышление радикально расширяет возможности человека в его стремлении к познанию всего окружающего мира вплоть до невидимого и непредставляемого, поскольку оно оперирует не только первичными и вторичными образами, но и понятиями.
В своем становлении мышление проходит две стадии: допонятийную и понятийную. Допонятийное мышление - это начальная стадия, когда формируются свойства, позволяющие преодолеть ряд временных и пространственных ограничений. На этом этапе мышление у детей имеет другую, чем у взрослых, логику и организацию. Логика не является врожденной изначально, а развивается постепенно в процессе оперирования с предметами.
Суждения детей - единичные, о данном конкретном предмете, поэтому они категоричны и обычно относятся к наглядной действительности, лишь немного отходя от нее. При объяснении чего-либо все сводится ими к частному, знакомому и известному. Большинство суждений - суждения по сходству, отсутствует цепь суждений - умозаключения. Очень широко используется суждение по аналогии, поскольку в этот период в мышлении главную роль играет память. Самая ранняя форма доказательства - пример. Учитывая эту особенность мышления, убеждая или что-либо объясняя ребенку, необходимо подкреплять свою речь наглядным примером.
Центральной особенностью допонятийного мышления является эгоцентризм (не путать с эгоизмом). Вследствие эгоцентризма ребенок не попадает в сферу своего собственного отражения, не может посмотреть на себя со стороны, поскольку он не способен свободно производить преобразования системы отсчета, начало которой жестко связано с ним самим, с его "я". Это не позволяет детям до пяти лет правильно понять ситуации, требующие некоторого отрешения от собственной точки зрения и принятия чужой позиции. Для примера рассмотрим эксперимент с макетом из трех гор, описанный Пиаже и Инельдер (216). Он состоял в следующем: ребенку показывали макет, содержащий три горы разной высоты, причем каждая из них обладала каким-либо отличительным признаком: домиком, рекой, текущей по склону, снежной вершиной. Экспериментатор давал ребенку несколько фотографий макета, на которых все три горы были изображены с различных сторон. Домик, река и снежная вершина были хорошо заметны на всех снимках. Испытуемого просили выбрать фотографию, где горы изображены так, как он видит их в данный момент на макете, т. е. в том же ракурсе. Обычно ребенок выбирал правильный снимок. После этого ему показывали куклу с головой в виде гладкого шара, без лица, чтобы он не мог следить за направлением ее взгляда. Куклу помещали по другую сторону макета. Теперь на просьбу выбрать фотографию, где горы изображены так, как видит их кукла, ребенок не мог дать правильного ответа и выбирал те фотографии, где макет был изображен так, как видит его он сам. Если ребенка и куклу меняли местами, то снова и снова он выбирал снимок, где горы имели такой вид, как он воспринимал их со своего места. Так поступало большинство испытуемых дошкольного возраста.
Еще более яркими примерами эгоцентризма детского мышления являются всем известные факты, когда дети при перечислении членов своей семьи себя в их число не включают. Так, если попросить ребенка пяти лет нарисовать всю его семью, он не нарисует себя, а если попросить накрыть на стол, то он не поставит прибор для себя. Пока эгоцентризм не преодолен, у ребенка не возникает понимания обратимости. Вот характерный пример. Испытуемый - Толя пяти лет. "Сколько у тебя братьев?" - "Два - Миша и Коля". - "А сестер?" - "Одна сестра - Валя". - "Сколько братьев у Коли?" - "Один - Миша". - "А сестер?" - "Одна - Валя". - "Сколько братьев у Миши?". - "Один - Коля". - "А сестер?" - "Одна - Валя". - "Сколько братьев у Вали?" - "Два - Миша и Коля". Из этого примера видно, что у ребенка нет еще понимания обратимости и симметричности отношений - если я тебе брат, то и ты мне брат.
Усвоение обратимых операций предполагает преодоление начального эгоцентризма. В дальнейшем, при понятийном мышлении, когда такое ограничение снимается за счет свободного переноса начала координат - децентрации, происходит расширение мыслительного поля, что и позволяет построить систему отношений и классов, не зависимых и децентрированных по отношению к собственному "я". На допонятийном же уровне прямые и обратные операции не объединяются еще в полностью обратимые композиции, поэтому усмотрение инвариантности отношений имеет границы, которые и предопределяют дефекты понимания. Основной из них - нечувствительность к противоречию.