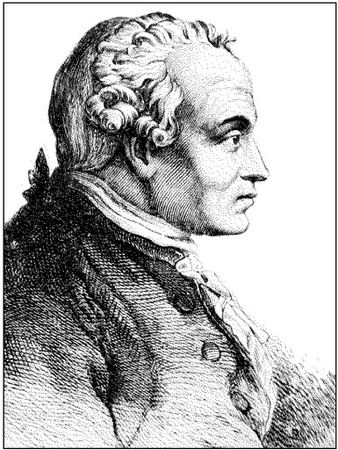Удивительно это сосуществование концепции и абстракции. Полет к макрокосму, соединенный с рассудочной осторожностью, как у актера или драматурга, который превращается и все же сохраняет самообладание, чтобы уметь проецировать себя во вне. Диалектическое мышление, обливающее все словно душ. Не изумителен ли Платон: энтузиаст диалектики, т. е. как раз этой самой рассудительности.
6 Странное зрелище: борьба и взаимопожирание философских систем. Это неслыханно ни в области искусства, ни в области науки! Но то же происходит между религиями: это замечательно и знаменательно.
7
Философия есть искусство, как по своим целям, так и по своим методам. Но средства у нее все те же, что и у науки: представление в понятиях. Это форма поэзии. Философ познает – творя и творит, познавая. Его нельзя подвести ни под какой вид, для него надо выдумать особый и дать ему новую характеристику.
Философия не растет; т. е. я хочу сказать, что она не развивается подобно другим отраслям знания, хотя иные отделы ее постепенно переходят в введение точной науки. Гераклит не может устареть никогда. Это творчество вне границ опыта, продолжение стремления к созданию мифов, притом до значительной степени в образах же. Математическое изложение вовсе не существенно для философии. Косная математическая формула (как например у Спинозы), так успокоительно действовавшая на Гете, может быть оправдана только как способ эстетической манеры выражаться. Превозмочь знание силой творчества, создающего мифы, – вот в чем глубочайшее родство философа с основателем языческой религии.
Создание такой религии заключается в том, что творец ее возбуждает веру в свое мифическое построение, воздвигнутое в пустом пространстве, т. е. в том, что он умеет удовлетворить какую-то необычайную потребность.
С появлением "Критики чистого разума" вряд ли можно ожидать повторения чего-либо подобного. Зато я вполне ясно могу представить себе новый род философов-художников, которые с превеликим эстетическим успехом заполнят образовавшееся пустое место произведениями искусства.
8
В каком отношении стоит к искусству философский гений? Из прямых соотношений между ними мало можно вывести. Спросим себя, что является в философии элементом искусства? Что именно делает ее произведением искусства? Что пребывает в ней, после того, как она теряет значение научной системы? Именно это пребывающее и есть то, что обуздывает стремление к знанию, именно оно и есть – художественное в системе. Но для чего необходимо такое обуздывающее начало? Рассматриваемое с научной точки зрения оно является иллюзией, неправдой, которые обманывают стремление к познанию и дают лишь временное удовлетворение. Ценность, которую приобретает философия от этого обуздания, относится не к сфере познания, а к сфере жизни; воля к существованию проявляется здесь философией для создания высших форм бытия.
Совершенно невозможно, чтобы философия и искусство обратились против этой воли: впрочем, на ее службе находится и мораль. Самодержавная власть воли. Относительная нирвана есть лишь одна из нежнейших форм существования.
9 Особой философии, отделенной от науки, не бывает: и там и здесь человек мыслит. Часто бездоказательное философствование имеет большую цену, чем многие научные положения, это объясняется эстетическими достоинствами такого миропостроения (alias философии), т. е. ее красотой и возвышенностью. Она все еще остается произведением искусства, хотя бы и не могла доказать своего достоинства научной теории. Впрочем, не то же ли самое бывает и в науке? – Одним словом: решающим голосом обладает не стремление к познанию, а эстетическое чувство: малодоказательная философия Гераклита имеет гораздо большее значение, чем все научные положения Аристотеля. Таким образом фантазия укрощает стремление к познанию и указывает ему место в культуре данного народа. При всем том философ преисполнен пафоса истины: значительность его системы служит для него ручательством ее истинности. В этих предварительных взглядах можно найти объяснение плодотворности философского мышления и его внутренних пружин.
10
Философское мышление специфически однородно с научным мышлением, но охватывает более великие вещи и обстоятельства. Понятие же о великом переменчиво и относится частично к эстетике, частично к морали.
Для науки нет ни великого, ни малого, это различие существует однако для философии! Человек науки может измерить себя этим положением. Но когда метафизика будет устранена, многое другое покажется человечеству великим. Я хочу сказать, что философы будут предпочитать другие области: и, надо надеяться, те именно, с помощью которых они могут целительно действовать на культуру.
11
Дело идет не о том, чтобы уничтожить науку, но чтобы овладеть ею.
Наука как в своих целях, так и в своих методах зависит от философских умозрений, но часто забывает это. И господствующая философия должна решить проблему о границах, до которых допустим рост науки: она определяет ценность науки.
12
Философ трагического познания. Он обуздывает разнузданную жажду знания не при посредстве новой метафизики. Он не устанавливает никаких новых верований. Он трагически ощущает отсутствие метафизической почвы, вырванной из-под его ног и никак не может удовлетвориться пестрым круговоротом науки. Он воздвигает основы новой жизни: он возвращает права искусству.
Философ отчаянного познания весь уйдет в слепую науку: знать во чтобы то ни стало.
Для трагического философа картину бытия завершает то, что все метафизическое кажется антропоморфизмом. Он никогда не бывает скептиком. Здесь нужно создать новое понятие: скепсис не может быть целью. Стремление к познанию, достигнув своих пределов, обращается против себя, чтобы приступить к критике самого познания. Познание служит возможно прекраснейшей жизни. Надо даже желать иллюзий – в этом сущность трагического.
13
Философ будущего? Он должен быть верховным судьею художественной культуры и вместе с тем охранителем ее от всякого рода излишеств.
2. Варваризирующее влияние науки
1
На примере современной Германии мы видим, что расцвет науки возможен даже в варварской культуре; польза точно так же не имеет к науке ни малейшего отношения (хотя можно порою усомниться в этом, видя то преимущество, которым пользуется химия и вообще естествознание, и тот практический интерес, который возбуждают чистые химики).
Наука обладает особым жизненным дыханием. Приходящая в упадок культура (например александрийская) или отсутствие культуры (как в наше время) не делают науку невозможной. Познание есть даже как бы замена культуры.
2
Все в науке, что имеет всеобщий интерес, либо случайно, либо вовсе отсутствует.
Изучение языка без упражнений в стиле и риторики.
Изучение Индии без ее философии.
Классическое образование без практических выводов из него.
Естественные науки без того исцеления и покоя, которые находил в них Гете.
История без энтузиазма.
Словом, все науки вне их практического значения: т. е. в совершенно ином виде, чем они могут быть интересны для человека культуры. Наука, как заработок!
3 Все естественные науки являются в сущности попыткой понять человека, понять антропологическое, или, еще правильнее, вернуться к человеку, сделав необъятный обход. Порыв к макрокосму, чтобы сказать себе в конце концов: "ты то, что ты есть".
4 Говоря об ужасной возможности познания, ведущего к гибели, я отнюдь не хочу сделать комплимент ныне живущему поколению: в нем совершенно нет подобной тенденции к познанию. Но если проследить ход развития науки, начиная с пятнадцатого столетия, то подобная сила и возможность кажется вполне вероятной.
5
Наши естественные науки направлены к гибели в целях знания, наше историческое образование приводит к смерти всякой культуры. Оно борется против и попутно уничтожает культуры. Это противоестественная реакция против ужасного религиозного гнета, который теперь ищет спасения в крайностях… И без меры.
3. Против портретной истории
Историческое познание развилось так широко, в качестве силы противодействующей религиозному мифу, а равным образом и философии. Здесь, как и в мышлении математическом, точное знание празднует свои сатурналии, самое ничтожное, что здесь достигается, ценится выше великих метафизических идей. Ценность определяется здесь степенью достоверности, а не степенью необходимости для человечества. Это старый спор веры и знания.
Целью исторического познания служит полное уяснение человека в процессе его становления, устранение чуда и из этой области. Это стремление лишает главной силы стремление к культуре: познание – чистая роскошь, культура не повышается от него ни на волос. Философия может утверждать теперь только одно: что всякое познание относительно и антропоморфно, что всюду царит иллюзия. Она не может обуздать этим расходившееся стремление к знанию с его оценкою по степени достоверности и поисками за самыми малыми объектами. В то время как каждый человек радуется, что день прошел, историк начинает копать, рыться и комбинировать над этим днем, чтобы вырвать его из объятий забвения: пусть и ничтожное будет вечно, потому что его легко понять.
Но для нас значителен только масштаб эстетический. Лишь великое имеет право на историю и притом не на портретную, а на продуктивную, возбуждающую, широкую историческую живопись. Мы оставляем могилы в покое, но овладеваем тем, что навеки бессмертно.
Любимая тема нашего времени – великие результаты, происходящие от малых причин. Историческое кишение, как целое, все же производит впечатление грандиозное, это словно та скудная растительность, которая постепенно мельчает Альпы. Мы видим великое стремление с ничтожными орудиями, но с бесконечно большим количеством их.
Почитание великих результатов малого сводится к удивлению перед несоответствием между результатом и причиной. Настоящее впечатление величия получается только тогда, когда мы сложим все мелкие причины вместе: мы создаем впечатление величия, придавая им единство. Но человечество растет только путем восторга перед редким и великим. Даже то, что величественно выдумано, как редкое, например чудо, может способствовать его воспитанию. Благоговейный ужас – лучшее в человеке.
4. Конец метафизики
Бесконечность есть самый первоначальный факт: надо объяснить лишь возникновение конечного. Но точка зрения конечного – чувственна, иными словами обманчива.
Как можно решаться говорить о назначении земного шара!
В бесконечном времени и пространстве нет целей: все сущее в них вечно под разными формами. Невозможно усмотреть в них никакого особого метафизического мира.
Чудовищная задача художника научить человечество стоять без всякой подобной подпорки.
Это ужасающий вывод из дарвинизма, но вывод этот я тем не менее считаю верным. Наше благоговение направлено на качества, которые мы считаем вечными: на моральное, религиозное, художественное и т. д.
Инстинкт ни на шаг не подвигает нас к объяснению целесообразного. Все инстинкты явились лишь в результате бесконечно продолжительного процесса.
Шопенгауэр говорит, что воля объективирует себя не адекватно: так кажется, если исходить от самых совершенных форм.
Но и самая воля есть лишь в высшей степени сложный продукт природы. Предпосылкой для нее служит нервная система. Даже сила тяжести не есть простой феномен, но следствие движения солнечных систем, эфира и так далее. Даже и механический толчок есть нечто сложное.
Нельзя доказать, чтобы бытие имело смысл метафизический, эстетический или моральный.
Рассматривать дух, продукт мозга, как нечто сверхъестественное! Даже обожать его! какая глупость!
Между миллионами гибнущих миров один возможный. Да и тот погибнет и обратится в первобытное ничто. Говорить о бессознательной цели, преследуемой человечеством, я считаю неправильным. Человечество не есть что-то цельное, как муравейник. Быть может, можно еще говорить о бессознательной цели отдельного государства или народа: но можно ли говорить о бессознательной цели всех муравьиных куч вместе?
Вы не должны искать убежища в метафизике, а пожертвовать собою ради нарождающейся культуры. Вот почему я так суров к идеализму грез.
Мы слишком легко смешиваем "вещь в себе" Канта и истинную сущность вещей буддистов, т. е. является ли действительность целиком представлением, или лишь видимостью, адекватной истинному бытию. Мы смешиваем мираж, как небытие и как видимое проявление бытия. Всевозможные предрассудки умножаются в пустоте.
5. К теории морали
1
Отрицательная мораль была бы чем-то величественным, потому что она давно – невозможна. Она была бы налицо, если бы человек в полном сознании сказал "нет!" в то время, как все чувства и нервы его говорят ему "да!", каждое волокно, каждая клетка его тела протестует против этого "нет".
2 Насколько велика была этическая сила стоиков, видно из того, что они нарушали свой основной принцип ради свободы воли.
3 В политике государственный человек часто предугадывает действие противника и совершает его раньше сам: "если я не сделаю этого, то он сделает"! Своего рода необходимость, как основа политики. Точка зрения войны.
4
Мораль не имеет никакого другого источника, кроме интеллекта, но связующая цель образов действует здесь иначе, чем у мыслителя и художника: она побуждает к делу. Очевидно, что необходимой предпосылкой является ощущение сходства, идентифицирование. Потом воспоминание об испытанной боли. Быть добрым значит идентифицировать очень легко и быстро. Это приблизительно такое же умение превращаться, как у актера.
Всякая справедливость и всякое право имеют своим источником равновесие эгоизмов: взаимный договор с целью не вредить друг другу. Стало быть благоразумие. Если справедливость и чувство права приняли форму прочных принципов, то они имеют уже другой вид: это твердость характера. Любовь и право антиподы: кульминационный пункт – самопожертвование ради мира.
Предугадывание возможных неприятных ощущений определяет собою поведение людей справедливых. Они эмпирически знают результат оскорбления ближнего, а также и результат оскорбления собственной их личности. Христианская этика вполне противоположена этому: она покоится на отождествлении себя самого с ближним; делать добро другому то же, что делать добро себе, сострадать другому то же, что страдать самому. Любовь соединена со стремлением к слиянию воедино.
5
Шопенгауэр отрицает влияние моральной философии на нравственность: ведь и художник никогда не творит, следуя за понятиями.
Удивительно! Конечно, каждый человек есть уже интеллигибельное существо (обусловленное бесчисленным количеством поколений). Но подчеркивание некоторых мотивов путем понятий не может не усиливать значения этих моральных сил. Ничего нового здесь не образуется, но творческая энергия концентрируется в одну сторону.
Нет сомнения, что, напр, категорический императив значительно усилил чувство бескорыстной добродетели. И здесь мы видим, как выдающийся моральный индивидуум распространяет вокруг себя очарование подражания. Философ должен воздействовать именно путем такого очарования. То, что является законом для самых выдающихся индивидуумов, должно постепенно становиться законом для всех: по крайней мере, как рамки для других.
6
Доброта и сострадательность, как душевные качества, не связаны, к счастью, с преуспеянием или гибелью той или другой религии: но добрые дела в значительной мере обусловливаются религиозным императивом. Огромное большинство добрых и согласных с долгом поступков не обладают ровно никакой этической ценностью, а являются вынужденными. При всяком крушении религии практическая мораль терпит урон. По-видимому, метафизика награды и наказания необходима.
Когда можно создать обычай, могучий обычай – то этим создается и нравственность. Но обычаи образуются благодаря изобретательности отдельных могучих индивидуумов. Я не рассчитываю на пробуждение добродетели в господствующих классах, но, быть может, можно было бы привить им как обычай, как долг – борьбу с пошлыми обыкновениями.
6. Кант и Шопенгауэр
1
Надо доказать, что все миропостроения антропоморфичны, мало того, что таковы даже все науки, если верить Канту. Правда, тут есть логический круг: если наука права – то неправ Кант, а если Кант прав, то науки лгут. Можно выдвинуть против Канта те соображения, что даже соглашаясь со всеми его положениями, нельзя не признать полной возможности того, что мир все же таков, каким он нам является. К тому же его система для жизни не годится: жить в сфере подобного скептицизма невозможно. Мы должны выйти из него. Мы должны забыть его. Чего-чего только не должны мы забыть в этом мире!
Наше спасение не в знании, а в деятельности. В возвышенных делах, в благородных волнениях лежит наше величие. Если вселенная к нам равнодушна, то мы хотим иметь право презирать ее.
2
Во втором предисловии к "Критике чистого разума" Кант говорит: "чтобы найти место для религии, я должен был ослабить престиж знания. Метафизический догматизм, т. е. предрассудок, будто можно прийти к ней помимо критики чистого разума, является истинным источником безнравственного неверия, которое теперь само стало догматизмом". Это очень важно! Им руководила культурная необходимость.
Странное противоположность "знать и верить". Что подумали бы об этом греки? Кант не знал других противоположностей, но мы!
Кантом руководит культурная потребность: он хочет спасти одну область от знания: и в нее-то Шопенгауэр закладывает корни всего высшего и глубочайшего, искусства и этики.
3
К Шопенгауэру. Смешно представить себе Шопенгауэра в современном университете! Его эвдаймонологическое учение, как и учение Горация, годится только для людей опытных; другое его учение, пессимистическое, вовсе не годится для современных людей: в лучшем случае они запрячут в него свое личное недовольство и, когда вытащат его оттуда назад, будут думать, что покончили с Шопенгауэром. Вся культура кажется такой невыразимо детской, словно какое-то ликование по случаю объявления войны. – Шопенгауэр прост и честен: он не ищет фраз и фиговых листьев, он говорит миру, погрязшему в нечестности: "смотрите: вот снова человек!" И как сильны все его концепции: воли (которая соединяет нас с Августином, Паскалем и индусами), отрицания, учения о гении вида. В его изложении нет тревоги, но прозрачность морской глубины, которая неподвижна или чуть плещет волнами под ярким солнцем. Иногда он груб, как Лютер. До сих пор он самый строгий образец стиля, каким обладают немцы: никто не относился так серьезно к языку и к обязанностям, которые он налагает. Сколько в нем величия и достоинства можно видеть в contrario: сравнив его с его подражателем (а в сущности противником), Гартманном. Его необычайная заслуга заключается в том, что он снова заглянул в самое сердце бытия без научных отвлеченностей; без остановок и промедлений в области всякой схоластики. Стоит, пожалуй, изучать тех мелких философов, которые последовали за ним, чтобы констатировать, как они сейчас же попали на такое место, где можно высказывать ученые pro et contra, где можно копаться, противоречить, но только никак не жить.