Вначале Гумбольдт предполагал обработать все свои записи в виде отчета о путешествии, включив в него астрономические магнитные наблюдения и издать отдельной книгой. Но разразившаяся в 1830-31 гг. в Парижской Академии наук нашумевшая научная дискуссия между знаменитыми французскими академиками зоологом-эволюционистом Жоффруа Сент-Илером и крупнейшим палеонтологом Жоржем Кювье отвлекла Гумбольдта от первоначальных намерений. Гумбольдту пришлось в 1830 и 1831 годах неоднократно выезжать из Берлина в Париж на заседания Академии наук, членом которой он являлся уже многие годы. В то же время Густав Розе, приведя в порядок собранные во время путешествия коллекции минералов и других пород, приступил к публикации отдельных статей , намереваясь впоследствии издать труд под названием "Геогностическо-минералогическое описание Урала и Алтайских рудных гор".
Летом 1831 года Гумбольдт предложил Густаву Розе включить в его работу и отчет о деятельности всех членов экспедиции, передал ему собранные во время путешествия материалы, пересмотрел совместно с Розе и Эренбергом путевые дневники и принял участие в корректировании всей работы. В 1837 году в Берлине вышел первый том "Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere", а в 1842 году - второй том. Сам Гумбольдт не издал отдельной работы о путешествии на Урал, Алтай и Казахстан, но ряд материалов, собранных в экспедиции, он внес в свои более поздние капитальные сочинения "Asie Centrale" (Paris, 1843), "Kosmos" (Stuttgart, 1845-1862), "Ansichten der Natur" ("Картины природы)" (1849, 1860 годы). Все эти работы были переведены на многие языки, в том числе и на русский. Причем, последняя из указанных работ дважды издавалась во второй половине прошлого века (1855, 1862) и в 1906 году.
В работе "Asie Centrale" Гумбольдт пришел к заключению, что в Азии, особенно на юге и на западе, можно наблюдать значительные изменения материка. Он впервые высказал идею о причинах образования величайшей в мире Арало-Каспийской котловины. Гумбольдт под этим названием полагал все пространство, которое, начавшись от западных берегов Черного моря, простирается через южную Россию, включает районы Каспийского и Аральского морей. По выражению Гумбольдта - это "страна-кратер". В образовании ее важнейшее место принадлежит процессу создания горных систем Кавказа, Гималаев, Гиндукуша, Тянь-Шаня. "С подъемом столь огромных хребтов при подошве их необходимо должны были образоваться и огромные впадины или углубления. Одну из таких впадин и самую огромную составляет Арало-Каспийская котловина".
Выдающийся английский геолог, член ряда академий, в том числе и Петербургской, Мурчисон после посещения в 1841 году России развил идею Гумбольдта об Арало-Каспийской котловине и высказал палеонтологически обоснованное суждение, что еще в начале нынешнего геологического периода она была обширным средиматериковым морем, которое по величине превосходило современное Средиземное, но впоследствии под влиянием тектоники и других причин разделилось на три: Черное, Каспийское и Аральское. Остальное пространство, бывшее дном этого моря, превратилось в необозримые степи.
Гумбольдт не допускал, чтобы Арал и Каспий уже в историческое время составляли один бассейн. Плато Устюрт, несмотря на свое сравнительно недавнее образование, должно было препятствовать этому соединению, и значит общий Арало-Каспийский бассейн существовал ранее образования Устюрта. Что же касается Скифского залива Каспийского моря, упоминаемого древними писателями и находившегося между нынешними Кара-Богазским и Кендерлинским (Комсомолец. - В. Ц.) заливами, то весьма вероятно, что во времена Геродота и в эпоху экспедиции Александра Македонского Арал сообщался с Каспием путем рукавов Скифского залива, в которые впадал Оксус . Скифский залив путем усыхания (испарение преобладало над притоком вод) или путем тектонических явлений постепенно суживался и тем самым способствовал разделению морей и бифуркации (разделению на две ветви. - В. Ц.) Оксуса.
В "Картинах природы" Гумбольдт, касаясь степных просторов Азии, пишет: "Между Алтаем и Куэньлунем, на несколько тысяч миль в длину от Китайской стены к Аральскому морю тянутся степи, если не самые возвышенные, то по крайней мере самые обширные во всем Свете. Одну их часть - Калмыцкие и Киргизские (Казахские - В. Ц.) степи, простирающиеся между Доном, Волгою, Каспийским морем и оз. Дзайсан, почти на 700 геогр. миль, я имел случай видеть сам... Азиатские степи, местами холмистые и прерываемые сосновыми лесами, представляют растительность более разнообразную, чем льяносы и пампасы Каракаса и Буэнос-Айреса. Самая привлекательная часть Азиатской равнины населена пастушескими народами, украшена мальвою, тюльпаном, низеньким розовидным деревцом, усеянным белыми цветами..." .
Касаясь непосредственно мест Казахстана, которыми проезжал Гумбольдт, он пишет: "Если кто-нибудь, ехав по этим лугам, где не проложено ни одной дорожки, встал бы в своей маленькой татарской тележке, то он заметил бы, как постепенно наклоняются под колесами эти растения, густые как лес. Некоторые из азиатских степей представляются нам равнинами ниворослей (обрабатываемые земли - В. Ц.); другие же покрыты сочными, всегда зелеными коленчатыми растениями; многие виднеются издали от соли в виде лишаев, разбросанных по глинистой почве" .
Гумбольдт, однако, отмечает: "Возделывание растений, требующих для своего прозябания (существования - В. Ц.) определенной температуры, научает нас, что вне Тибетской возвышенности (и в нее прежде заключаемой пустыни Гоби) Азия представляет между 37° и 40° широты не только непрерывную, плоскую возвышенность, но и значительные низменности, даже настоящие лощины. Внимательное чтение путешествий Марко Поло, где упоминается о виноделии и уборке хлопчатой бумаги в северных странах, приковало давно внимание остроумного Клапрота на этот предмет... Страны Котан, Кашгар и Яркенд еще и теперь, как при Марко Поло, платят дань хлопчатником... В подтверждение сказанного можно упомянуть и о берегах Каспийского моря (в широте 46°21'), лежащих на 78 футов ниже уровня Черного моря; там я сам был свидетелем страшной летней жары, способствовавшей возделыванию винограда; тогда как зимою ртуть в термометре не поднимается выше 20-25 градусов стоградусного термометра. Притом, весьма понятно, что растения, живущие, так сказать, только летом (такие, как виноград, хлопок, рис, дыни), могут от действия лучистой теплоты с успехом возделываться и между 40°-44° широты" .
(Предсказания Гумбольдта блестяще оправдались. Известно, с каким успехом сейчас на плодородных долинах Семиречья благодаря крупным мероприятиям по орошению земель, проведенным за годы Советской власти, возделываются рис и виноград, а Кзыл-Ординская область славится превосходными дынями).
Путешествие А. Гумбольдта по внутренней Азии принесло немалую пользу России. Кроме описания природы, богатств ее недр, а также гор, снежных вершин, рек и озер, оно обогатило науку новыми фактами в области метеорологии, астрономии и теории земного магнетизма. Гумбольдт описал климаты районов как в европейской, так и в азиатской частях России, исследовал географическое распространение флоры и фауны, его сотрудники собрали богатые коллекции растительного и животного миров, а также минералов. Но не только богатство или скудость природы нашли отражение в его многочисленных работах; с особым вниманием Гумбольдт наблюдал за "народами Востока, богато одаренными и издревле объединенными в различные племенные союзы".
В своих письмах к ученым Гизо и Тейлору Гумбольдт неоднократно останавливался на быте, религии и образе жизни казахов. Гизо он писал: "Народ, в особенности эта огромная масса номадов (кочевников - В. Ц.), возбуждает больший интерес, чем величественные реки и снежные вершины. Глядя на них, мысленно переносишься в прошедшее, в эпоху великого переселения народов. 30 000 киргизов (казахов - В. Ц.), которые перекочевывают еще в эту минуту, когда я Вам пишу, мой любезный друг, на своих телегах, показывают, что происходило в былые времена. Мы знаем все это из истории, но мне пришлось все видеть своими глазами" .
"По словам Гумбольдта, - пишет Тейлор, - Киргизская (Казахская) степь вообще чрезвычайно однообразная; пройдя каких-нибудь 50 миль, вам кажется, что вы прошли тысячу; но народ представляет много интересного... Киргизы (казахи) принадлежат к тем немногим человеческим расам, обычаи которых в течение тысячелетий почти не изменялись" .
В путешествии Гумбольдт собрал также множество данных для его антропологических воззрений, подробно изложенных в его сочинении "Vues des Cordillieres", но дополненных и измененных в "Космосе". Его учение о человеческих расах, благодаря сравнительным наблюдениям над племенами Америки и внутренней Азии, окрепло в научную теорию, которая и до сих пор еще во многом справедлива. С замечательной прозорливостью высказал он мысли о переходах одной расы в другую, а также, конечно, в виде счастливой догадки, и мысль о важном влиянии среды на этот процесс. К чести Гумбольдта нужно заметить, что он не поддался нелепым воззрениям еще в его время сложившейся школы Кампера, Блуменбаха, Тришара, которая отстаивала с диким фанатизмом расовую табель о рангах, племенную генеалогию, в силу которой одна нация предназначалась для естественного господства над другой. Раз допустив влияние среды и окружающей природы на народ, Гумбольдт логически должен был признать и за человеческой цивилизацией способность органически видоизменять народ и расу. Поэтому он прямо объявляет: "Нет рас низших и высших, есть только расы более развитые, более облагороженные культурой". И это научное убеждение он всеми силами старался проводить в жизнь, пользуясь своим влиянием в высших правительственных сферах.
Он ратовал за уничтожение невольничества в Америке и добился принятия закона, по которому негр, который вступал на прусскую землю, становился свободным. Этот закон, конечно, был несколько наивен. Гумбольдт не замечал, что некоторые его соотечественники порой жили не лучше рабов. И с этой стороны вполне справедливы упреки в его адрес. Нужно, однако, заметить, что до конца своей жизни он безбоязненно осуждал действия прусского правительства и не раз говорил в глаза королю горькие истины, восстановив этим против себя весь круг придворных аристократов, которые "яростно ненавидели его" .
В годы глубокой старости, когда Гумбольдту пошел уже девятый десяток, он не переставал следить за научными экспедициями, совершавшимися по всей Азии и Азиатской России в частности. С особым интересом изучал он материалы, касающиеся тех районов, где ему пришлось бывать самому.
Естественно, после путешествия Гумбольдта по России правительство и различные научные организации, чтобы не ронять свой престиж, стали направлять большое количество ученых в путешествия по Сибири, Алтаю и другим районам Азии.
Гумбольдту хорошо были известны труды Петра Александровича Чихачева, совершившего в 1842 году научное путешествие по Алтаю и Казахстану и издавшего в 1845 году в Париже солидный труд: "Voyage scientifique dans l'Altai Oriental...", а также ряд книг по исследованию Малой Азии; работы академика Гельмерсена, сопровождавшего Гумбольдта во время его экспедиции по Азиатской России и издавшего в 1844 году в Петербурге книгу: "Ueber die geognostische Beschenheit des Ust-Urt und insbesondere dessen cestliechen Abfallen zum Aral-See"; геологическое путешествие в 1844 году по Алтаю и Казахстану профессора Щуровского; гидрографические исследования Аральского моря и низовья Сырдарьи контр-адмиралом А. И. Бутаковым и т. д.
Гумбольдту были известны работы Федорова, Савича, Саблера, Фусса по измерению глубин и уточнению береговой линии Каспийского моря. Гумбольдт интересовался работами Паррота (сын), Хозько, Ханыкова, Палласа, Бунге, Бэра, Влангали. Из западно-европейских ученых-путешественников Гумбольдт с особым вниманием знакомился с работами английского геолога Мурчисона, о котором мы уже упоминали; французского путешественника Омер-де-Гелля, проведшего нивелировку берегов Каспия; немецкого ботаника Ледебура, издавшего в 1842-53 годах четырехтомник "Flora Rossiса" и других.
Уже после кончины Гумбольдта немало нового в изучение географии Казахстана внес выдающийся представитель передовой культуры XIX века, просветитель и ученый, мужественный путешественник Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865 гг.). Лучше зная местный край, он внес ряд важных уточнений в отдельные положения Гумбольдта. В "Очерках Джунгарии", впервые опубликованных в "Записках РГО" за 1861 год, кн. 1, с. 184-200 и кн. II, с. 35-58, Чокан Валиханов отметил: "Гумбольдт и Риттер... думали, что буруты именно составляют Большую Кайсацкую орду и что эту-то орду нужно отличать от Малой и Средней. Но это было большой ошибкой со стороны почетных корифеев науки. Большая, Средняя и Малая киргиз-кайсацкие орды составляют один народ "казах", отличный от киргизов, называемых китайцами - бурутами... Эти два народа отличаются по языку, по происхождению, по обычаям" .

Чокан Чингисович Валиханов - великий казахский просветитель, ученый, путешественник.
А ведь всего лет 10 до того Чокан Валиханов, воспитанник Сибирского кадетского корпуса в Омске, впервые пролистал классические труды Александра Гумбольдта. Поистине как метеор пронесся этот гениальный юноша над казахскими степями... И такой ученик, думается, составил честь одному из своих учителей - Александру Гумбольдту.
Достоинства его как воспитателя хорошо сформулировал в своей книге Герберт Скурла: "Он стремился говорить и писать языком, понятным одновременно и буржуа, и рабочему, и офицеру, и князю, и студенту, и профессору (Гумбольдта поэтому многие считают основателем жанра научно-популярной литературы)... Гумбольдт пробуждал в людях любовь к природе, помогал им осознать грядущие глубокие перемены во многих областях человеческой жизни" .
Пётр Чихачев
Люди! Торопитесь разумно использовать время, отпущенное нам неповторимо самой природой.
П. Чихачев
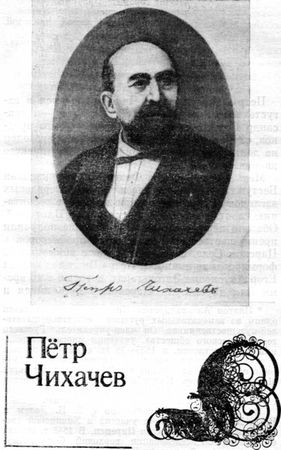
Петр Александрович Чихачев родился в августе 1808 года в Гатчине. Его отец - Александр Петрович, как и большинство его предков, служил в армии, в 1804 году был переведен на должность первого директора Гатчинского дворца.
Мать Петра - Анна Федоровна, урожденная Бестужева-Рюмина, была женщиной передовых взглядов и уделяла большое внимание воспитанию своих детей: Петра и младшего Платона . Оба они первоначальное образование получили преимущественно у лицейских профессоров в Царском Селе. Особенно большое внимание на формирование личности Петра Чихачева оказал Егор Антонович Энгельгардт, который в то время был директором Царскосельского лицея и воспитал самый первый его выпуск во главе с гениальным Пушкиным. Являясь большим любителем-натуралистом, Энгельгардт привил братьям любовь к природе. У него Петр Чихачев еще в отроческие годы научился собирать и классифицировать окаменелости, минералы, различные виды растений и т. п.
22 июля 1823 года мать Чихачева подала прошение об определении ее старшего сына Петра студентом в ведомство Государственной коллегии иностранных дел. Прошение было удовлетворено.
В марте 1828 года П. А. Чихачев окончил дипломатическую школу. Были особо отмечены его редкие способности к изучению иностранных языков (французского, немецкого, английского, греческого и итальянского), а также исторических наук. 30 марта П. А. Чихачев был определен на работу в Министерство иностранных дел в чине коллежского регистратора, одновременно произведен в первый офицерский чин .
Во внешней политике России того времени одной из основных проблем являлся "Восточный вопрос", в котором непосредственно сталкивались интересы, главным образом, России, Англии и Австрии.
В 1828 году, во время начавшейся русско-турецкой войны, младший брат Петра - Платон, воспламененный патриотическими чувствами, был зачислен добровольцем в действующую армию, в Санкт-Петербургский уланский полк, участвовавший тогда в осаде Силистрии и Шумлы. "Наши зимние квартиры мы заняли в деревнях близ Бухареста, - писал Платон Чихачев П. П. Семенову (впоследствии еще и Тян-Шанскому. - В. Ц.) , - и там я прочитал описание путешествия А. Гумбольдта в Америку, которое впоследствии побудило меня познакомиться с Новым Светом".
Петр усердной работой и блестящими знаниями иностранных языков выделялся среди молодых работников Министерства иностранных дел, за что 5 апреля 1830 года был "пожалован в переводчики Государственной коллегии иностранных дел", а 30 апреля направлен на работу в Азиатский департамент этого Министерства.