Увлекательный рассказ молодой английской исследовательницы о возвращении выращенных в неволе шимпанзе в условия их естественного обитания.
Книга иллюстрирована фотографиями и схемами-картами.
Рассчитана на широкий круг читателей.
Содержание:
Предисловие к русскому изданию 1
Предисловие 2
Часть 1 - Начало 2
Часть 2 - Освобождение 20
Часть 3 - Обучение жизни на воле 29
Эпилог 59
Фотографии 59
Благодарности 61
Примечания 61
Стелла Брюер
Шимпанзе горы Ассерик
Предисловие к русскому изданию
Человек, всегда представлявший загадку для философов, психологов, педагогов, великих мастеров слова, все еще находится в состоянии поиска важнейших начал своей природы, как и в те далекие времена, когда высекалась знаменитая фраза "Познай самого себя". Чтобы по достоинству оценить все сделанное Стеллой Брюер и такими ее предшественниками, как Шаллер, Коортландт, Гудолл и др., следует постоянно помнить о незаменимости человекообразных обезьян для целей моделирования физиологических и психических функций человека.
Где бы ни развивались события, описанные в книге "Шимпанзе горы Ассерик", - в семействе Брюеров, в резервате Абуко или в национальном парке Ниоколо-Коба, - действиями Стеллы Брюер неизменно руководит безграничная любовь и уважение к подопечным животным. Вместе с природной любознательностью, трудолюбием и упорством это ее отношение к шимпанзе, вырванным из родных мест, позволили не только накопить исключительно важный материал, но и убедительно объяснить его для грамотной постановки дальнейших экспериментов.
1972 год примечателен тем, что в США (штат Джорджия), Гамбии (Абуко), Сенегале (Ниоколо-Коба) и СССР (Псковская область) были начаты во многом сходные научные программы: исследование видового поведения шимпанзе в ареале или в условиях, близких к естественным. Как всякое новое дело, оно не обошлось без потерь. Так, по неизвестным причинам несколько шимпанзе, высаженных на небольшом островке американскими учеными, тяжело заболели, а двое погибли. Недосчиталась некоторых своих подопечных и Стелла, хоть она и надеется, что они живы и здоровы. Во время экспедиции 1980 года нас тоже постигла неудача. Мы не смогли объединить пятерку детенышей шимпанзе с их очень агрессивными матерями - сказалось изолированное воспитание шимпанзят с первого дня рождения.
Как ни странно, но наука до сих пор не имеет полного представления о видовом поведении шимпанзе и других человекообразных обезьян. Вполне возможно, что она так никогда и не получит его, если будет изучать природу этих представителей отряда приматов с прежних позиций. Эта проблема тесно связана с изучением биологического и социального начал в развитии человека, а также поиском у обезьян хотя бы предпосылок таких качеств, которые пока числятся только за человеком.
Широкому читателю, быть может, нелишне знать, что антропоиды, и среди них шимпанзе, давно приковывают внимание ученых всего мира. Пожалуй, только дельфины породили столь же напряженную и, к сожалению, пока еще малоэффективную дискуссию. Парадокс состоит в том, что при изучении видоспецифических характеристик шимпанзе специалисты сразу же переключаются с биологической на идеологическую платформу: есть ли у обезьян абстрактное мышление, интеллект, сознание, язык и т. д. Для упрощения аргументации порой используются цитаты более чем столетней давности, и проблема загоняется в тупик. Догматик разводит руками, ссылаясь на то, что наука по этим вопросам даже относительно человека все еще находится в состоянии поиска.
Если же все-таки вычленить какой-то минимум форм видового поведения (например, пищевого, полового, родительского, гнездостроительного, коммуникационного, ориентировочно-исследовательского) и на нем сконцентрировать свое внимание, то сразу же возникнет вопрос: насколько различен он у шимпанзе, живущих в ареале, у шимпанзе, которые после довольно короткого отрыва от сородичей внедряются в родную им стихию, и, наконец, у тех шимпанзе, которые родились в неволе (в зоопарках, приматологических центрах, лабораториях) и на которых в основном и добываются научные факты как на подопытных животных определенного вида. Опасность последнего шага очевидна, коль скоро мы не имеем представления о глубине влияния неволи на весь комплекс поведения, называемого видоспецифическим. Впрочем, отдельные факты подобного рода нам уже известны. Достаточно вспомнить работы Г. Харлоу, в которых засвидетельствовано тяжелое нарушение родительского поведения у самок резусов, выросших в изоляции от матерей и других взрослых особей. Тут есть над чем призадуматься. Нами было описано нарушение гнездостроительной деятельности у тех шимпанзе, которых лишили возможности наблюдать эту форму поведения в детском возрасте (до двух лет), то есть лишили "наглядного учебного пособия". Самое важное в нарушении этого типично видового поведения заключается в том, что оно не восполняется на протяжении последующей жизни обезьяны. Согласитесь, что этот факт - тоже повод для размышления о воспитании различных моторных навыков, то есть умений, у наших детей. Разговор об умелых руках так и останется одним разговором, если у наших малышей загружены будут лишь глаза и уши (телевизор!), а руки будут бездействовать. Весьма лаконичные и четкие зарисовки С. Брюер тех или иных форм поведения шимпанзе в родной им природе, с которой они на короткое время теряли контакт, имеет большой научный интерес. На основании их можно прийти к заключению, что многие стороны видового поведения шимпанзе, несомненно, поддерживаются с помощью опыта, приобретенного в жизни в сообществе, роль которого в науке о поведении еще мало оценивается. Это касается поиска пищи, выбора места для ночлега, отношения к другим животным, взаимодействия в стаде и т. д. Шимпанзенок Пух, найденный в полугодовалом возрасте французской четой и через некоторое время переданный Стелле, долго не мог смириться с присутствием в резервате других шимпанзе. Терпеливое и умелое воспитание сняло в конце концов невротический комплекс, и Пух начал привыкать к своим сородичам, усваивая азбуку их поведения. Другой шимпанзе - Камерон, родившийся в неволе, был в пятилетнем возрасте передан Стелле Лондонским зоопарком для использования его в эксперименте. Привезенный в Ниоколо-Коба, он вызывал приступы ярости у лидера группы Уильяма своим неумением вести себя соответственно правилам вида. Нечто подобное мы наблюдали и в нашей лаборатории. О. Г. Витищенко передала нам своего любимца Тараса, привезенного ею из Мали. Возмущению Тараса не было предела, когда он оказался в одном помещении со своими сородичами Боем и Гаммой. Вероятно, он не соблюдал соответствующие его виду правила поведения, и потому на него часто нападал Бой - Гамма при этом держала полный нейтралитет. Но стоило Тарасу дать отпор Бою, как Гамма тут же брала сторону Боя и они вместе жестоко наказывали Тараса. Вмешательство персонала, вероятно, только замедляло процесс консолидации в данной группе, тем не менее она вскоре наступила, едва Тарас уразумел, кто есть кто.
На следующий год группа наших шимпанзе пополнилась двумя подростками - самками Сильвой и Читой, удивительно быстро воспринявшими внутригрупповые взаимоотношения. Любопытно, как менялось отношение вожака и других взрослых особей к малышке Чите. Вначале ей все позволялось, ее все охраняли, ей ни в чем не было отказа. Общеизвестного агрессивного поведения в отношениях старых особей к вновь прибывшему детенышу, не имеющему с ними кровного родства, здесь не усматривалось. Но уже через год подростку Чите позволялось далеко не все, и ее весьма впечатляющие "истерики" быстро угасли.
Стелла Брюер большое внимание уделила системе коммуникации у шимпанзе, причем отрадно видеть, что учитывала она не только голосовые средства общения. На мой взгляд, у нее это получилось естественней и убедительней, чем у всех ее предшественников, наблюдавших шимпанзе в природных условиях. Ценность сведений Брюер возрастает еще и потому, что она неоднократно наблюдала встречу своих шимпанзе с их дикими собратьями, фиксируя все коммуникационные сигналы, подаваемые обеими группами обезьян. Значение этих наблюдений трудно переоценить. Они позволяют предположить, что, например, набор голосовых сигналов шимпанзе, выявленный в лабораторных условиях, в достаточной мере отражает сущность этой коммуникативной системы. Из точных описаний Брюер отчетливо видно, насколько велико значение коммуникации в поддержании сложных форм стадного поведения шимпанзе.
Есть еще один момент, касающийся принципиальных вопросов природы общения у животных. Из наблюдений Брюер следует, что подача голосовых сигналов у обезьян бывает и тогда, когда никакого "обезьяньего окружения" нет. В своих физиологических исследованиях на изолированных особях шимпанзе и капуцинов мы обнаружили закономерности возникновения и угасания пищевого голосового сигнала: он зависел от уровня пищевой мотивации, а не от присутствия других особей. Эти факты, много раз проверенные в дальнейшем на детенышах, развивавшихся в полной изоляции от взрослых обезьян, подтверждают то положение, что при определенных условиях среды и состоянии самой обезьяны она не может не издать необходимого голосового сигнала. Это обстоятельство переносит наблюдаемый феномен в область надорганизменной адаптации. В этом аспекте наука располагает пока очень небольшим запасом убедительного материала.
Исходя из наблюдений С. Брюер, можно сказать, что голосовые сигналы различного значения - ориентировочные, пищевые, угрожающие и др. - императивно воздействуют на всех особей, выполняя тем самым видовую адаптивную функцию. Так, шимпанзе Тина, Пух и Уильям, приученные Стеллой находить и употреблять в пищу плоды диких фруктовых деревьев, "начинали возбужденно пыхтеть, обнимать друг друга и с характерными звуками пищевого хрюканья торопливо бросались к деревьям". Казалось бы, о чем тут сообщать друг другу, когда деревья, усыпанные вкусными плодами, у всех на виду. С другой стороны, будь перед деревом только одна обезьяна, она делала бы то же самое, так как сработал бы приспособительный видовой механизм.
Особенно интересно было читать о предметно-орудийной деятельности обезьян, о частом и разнообразном использовании шимпанзе природных объектов. Камень, брошенный рукой Уильяма, одинаково опасен и для павиана, и для Стеллы. Шимпанзе довольно успешно расправляются палками и камнями с крупными змеями, а не обращаются в паническое бегство. И вообще, как можно видеть из рассказа Брюер, паника - редкое явление в поведении шимпанзе. Все обстоит гораздо рациональнее; вполне возможно, что этому способствует своеобразная "круговая оборона стада", имеющая много глаз и ушей, а также дифференцированную систему коммуникации.
Несколько слов об отношении обезьян к огню. Зарисовки, сделанные Брюер, очень важны для понимания истоков первобытной культуры человека. В самом деле, использование еще не остывшей золы костра для устройства ночлега или поиск в горячей золе поджаренных стручков, семена которых стали от этого вкуснее, - не является ли все это свидетельством того, какой могла быть заря человечества? Во время наших экспедиций на озере Язно мы неоднократно убеждались, что в холодную погоду пламя костра не отпугивало ни шимпанзе, ни даже резусов. Об этом свидетельствуют и кадры кинофильма "Косматые робинзоны" (Леннаучфильм, 1977).
В заключение следует признать, что Стелла Брюер нашла правильный путь спасения шимпанзе, по тем или иным причинам вырванных из своих естественных условий. Во всяком случае, формирование небольших групп шимпанзе и внедрение их в ареал может оказаться более экономичным и действенным способом сохранения на нашей планете этого вида человекообразных обезьян, чем случайное столкновение "цивилизованных" шимпанзе с дикими.
Издание на русском языке книги Стеллы Брюер - очередной важный шаг в распространении новейшей научной мысли среди широкой читательской аудитории. Вместе с книгами Дж. Гудолл "В тени человека" ("Мир", 1974) и Ю. Линдена "Обезьяны, человек и язык" ("Мир", 1981) эта работа С. Брюер окажет серьезную поддержку всем, кто пытается по-новому осмыслить природу поведения антропоидов.
Л. А. Фирсов
Предисловие

Среди животных шимпанзе, несомненно, самые удивительные создания в мире. Если мы заглянем в словарь, то узнаем, что шимпанзе - это ближе всех стоящая к человеку африканская человекообразная обезьяна. Сколь велика степень этого сходства, люди поняли лишь тогда, когда начали изучать поведение шимпанзе в естественных условиях обитания - в горах и лесах их родной Африки. Вот уже восемнадцать лет я веду наблюдения за шимпанзе в национальном парке Гомбе (Танзания), слежу за тем, как складывается жизнь знакомых мне обезьян, и все больше узнаю об их необыкновенно сложном социальном поведении.
Шимпанзе обитают в экваториальном поясе тропической Африки. Они хорошо приспособились к жизни в лесу и большую часть времени проводят на деревьях, в тенистых зеленых кронах, где подувает легкий ветерок и много молодых побегов и сочных плодов. Спят они тоже на деревьях, в гнездах из веток и листьев. В минуты возбуждения шимпанзе неистово раскачиваются среди ветвей, размахивая толстыми сучьями и наполняя воздух громкими криками. Таков образ жизни большинства шимпанзе, и такова была бы жизнь всех представителей этого вида, если бы человек не вмешивался в их существование.
К несчастью для шимпанзе, человек, эволюционировавший параллельно со своими человекообразными родственниками, приобрел в процессе развития необыкновенное стремление к знаниям и способность изменять природу вещей. Человек вырубает леса, чтобы строить дома и выращивать пищевые культуры, и тем самым уничтожает естественную среду обитания шимпанзе. Человек отлавливает детенышей обезьян и отправляет в заморские страны, чтобы изучать их, глазеть на них, а иногда и заботиться о них - но лишь в условиях, привычных для человека. Приобретя власть над рыбами морскими, птицами небесными и тварями земными, человек может делать с ними все, что ему вздумается. Такова, по крайней мере в большинстве случаев, его позиция.
К счастью, существуют люди более разумные, менее самодовольные, способные понять истинные ценности. Несколько лет назад я получила письмо от некоего мистера Брюера из Гамбии. Он сообщил мне интересные сведения об осиротевших шимпанзе, за которыми ухаживала (и наблюдала) его дочь в природном резервате Абуко. Так я впервые услышала о Стелле. Мы стали с ней переписываться, и скоро мне уже казалось, будто я давно знаю Уильяма, Тину, Пуха и всех остальных. Я была поражена той самоотверженностью, с какой Стелла отдавалась делу охраны природы, а также ее способностью к точным наблюдениям. Спустя еще какое-то время мы встретились в Лондоне.
Стелла поставила своей целью вернуть в тропические леса Сенегала тех шимпанзе, которые долгие годы провели в неволе и даже родились там. Это был очень смелый замысел: нужно было не просто выпустить обезьян в подходящем месте, но помочь им приспособиться к жизни в новых условиях, научить распознавать опасность и правильно реагировать на нее, показать, какую пищу они могут есть и где ее найти, как раскалывать орехи, выуживать муравьев, сооружать гнезда. Стелле предстояло научить своих питомцев искусству выжить и уцелеть. Но прежде ей следовало увидеть, как шимпанзе живут в природе. И я пригласила ее в Гомбе. Во время своего визита Стелла смогла внимательно присмотреться к поведению диких шимпанзе и понять, какой образ жизни должны вести ее обезьяны, когда наступит момент их освобождения.
С тех самых пор я с восхищением и живым интересом слежу за всем, что делает Стелла Брюер для осиротевших животных. Если кто и отличается терпением, мужеством и склонностью к экспериментальной работе, то это, безусловно, она. Она уже добилась гораздо большего, чем можно было предположить. Ее наблюдения расширяют знания о самых близких наших родственниках из мира животных, помогают понять, как шимпанзе приспосабливаются к новым условиям, новой пище, новым опасностям, новым понятиям.
Наблюдая за вольной жизнью шимпанзе в Гомбе, я часто думаю о тех несчастных узниках, которые в угоду человеку томятся за решеткой зоопарков или выполняют всевозможные трюки на арене цирка, и так изо дня в день, из года в год, без всякой надежды на освобождение. Если Стелла достигнет своей цели, для некоторых из них появится возможность вернуться в джунгли, где они должны находиться по праву рождения.
Джейн Гудолл
Часть 1
Начало
Моим родителям
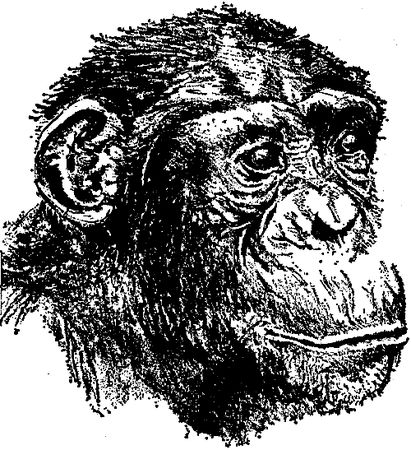
1
Уильям
Я взглянула и стала наблюдать, как он ест. Он был спокоен и весь поглощен едой. Вот он протянул свою длинную руку, ухватил гроздь фиолетовых ягод мандико и поднес ко рту. Его подвижные губы аккуратно срывали ягоду за ягодой, пока он не набил ими рот. Тогда он прислонился к стволу дерева, что росло позади него, и, устроившись поудобнее, стал наслаждаться трапезой. Умные карие глаза лениво следили, как отпущенная ветка пружинисто вернулась на свое место, как несколько ягод, оторвавшись от грозди, упало на сухие листья.
Он поднял руку и запустил пятерню в густую шерсть на плече. Послышался звук удовлетворенного почесывания. Потом он повернул голову, и на лице появилось выражение глубокой сосредоточенности. Вот он заметил во взъерошенных волосах чешуйку сухой кожи. Нагнув голову и вытянув нижнюю губу, он аккуратно высвободил кусочек кожи. Держа его на кончике все еще вытянутой губы, он несколько секунд пристально смотрел на него. Потом плотно сомкнул губы, как будто хотел на ощупь убедиться в том, что увидел. Снова выдвинул вперед нижнюю губу, еще раз внимательно осмотрел кусочек кожи и, окончательно удовлетворившись, отправил его в рот, к массе пережеванных ягод. Поиски других чужеродных предметов в шерсти продолжались. Его пальцы неутомимо и тщательно перебирали пучочки волос, однако ничего, что могло бы вызвать подозрение, больше не нашлось. Он вновь расслабился и принялся сосать пропитанный слюной комок ягод.