– Неужели вы не понимаете, что искусственные цветы – это символ смерти, но смерти неотвратимой, смерти смертельной, символ упадка и разложения, они никогда не воскреснут для новой жизни, не к ним обратится Господь: "Встаньте и идите!" в День Суда Божьего! – Тут я поднял вверх указательный палец, и пани Дупская-Коципинская задрожала всем телом, а пан Боучек перестал шуршать рубанком и разинул рот. – Искусственные цветы неестественные, уродливые и непристойные. Эта яркая краска, которая линяет на солнце, а после первого же дождя превратит их в пугало и испортит вам настроение. А запах – этот мерзкий запах мокрой тряпки! Фу! Меня уже от одной мысли выворачивает! Зато живые цветы, даже увядшие, даже засохшие, никогда не потеряют своего достоинства, сохранят ваш контакт с покойным, передадут ваш последний привет на тот свет своим благоуханием… А в День Воскресения Мертвых эти цветы оживут вместе с вашим мужем, и вы только представьте себе эту огромную толпу воскресших людей… Эти миллионы миллионов… Как вы думаете – каким образом удастся вам среди этого бесчисленного множества отыскать своего мужа? А я скажу: по запаху! По запаху этих самых цветов! Вот принюхайтесь – это маттиола! – она способна мертвого пробудить ото сна! И не одного уже, между прочим, пробудила. Да-да, не удивляйтесь. В случае летаргии маттиола дарит нам шанс избежать ошибки. – Безутешная вдова при этих словах с опаской посмотрела на пана Дупского-Коципинского, не собирается ли он и впрямь пробудиться от летаргии, но слащаво-приторный запах трупа, вызванный летней жарой, успокоил ее изболевшуюся душеньку, и она, облегченно вздохнув, кивнула:
– Ладно уж, пусть так и будет… Но… но почему вы его правую руку не положили, как и левую, вдоль тела, а засунули за обшлаг пиджака?
– Ведь это же банально! Руки по швам! Что может быть нелепее? Он должен предстать перед Господом, а не перед судом присяжных, ведь так? Рука за обшлагом свидетельствует о его деловитости, целеустремленности и непреклонности. Ведь таким же он был? Правда? То-то же!
А пан Торба, хозяин парикмахерской, выразил свое глубокое удивление тем, что его покойная жена, еще не старая женщина, – представьте себе только – лежала в гробу, заложив руки за голову. Ну, как с такими клиентами работать? У них напрочь отсутствует фантазия, творческая жилка.
– Пан Торба, – сказал я, беря пана Торбу под руку, – ваша жена была веселой и жизнерадостной, разве вы когда-нибудь видели, чтобы она, так вот, опустив руки, лежала перед вами? Не было этого, потому что такого и быть не могло. Она даже ночью так не спала.
– Но ведь так принято… – робко бормотал пан Торба.
– И вы правы, – согласился я, потому что никогда с клиентами не спорил. – Так принято. Но по отношению к кому? К старым замшелым бабкам и дедам! Ваша жена отошла в лучшие миры полная сил и энергии, ее тело, несмотря на болезнь, пыхало здоровьем! Да-да, я не побоюсь этого слова – пыхало здоровьем! Она не умерла! Это мираж! И сейчас, чтобы вы знали, она рядом с нами! – Пан Торба испуганно огляделся. – Она здесь, я чувствую ее дыхание, ее радостный шепот. – Пан Торба насторожился и прислушался. – Посмотрите на нее – она отдыхает, как привыкла отдыхать в полдень в вашем саду, когда так приятно улечься в тени яблонь и вишен, заложив за голову эти лебединые руки. Она лежит, как живая. Видите эти ямочки на ее щеках? А этот румянец? Я постарался. Даже губы ее очерчены помадой таким образом, чтобы они нам демонстрировали чуть заметную улыбку довольного жизнью человека.
– Жи… жи… – захлебнулся воздухом пан Торба. – Какой жи… жизнью?
Ну, да, иногда меня заносит.
– Пан Торба, вы не верите в вечную жизнь? – сразил я его наповал, и он, утирая слезы, пожал мне руку. Это я называю "волшебной силой искусства".
Пан Кнофлик довольно мурлыкал в усы, ему нравился мой подход и то, как я быстро нахожу общий язык с клиентами, хотя однажды он сделал мне замечание, когда я слишком уж сокрушенно причитал над роскошным телом прекрасной девицы, которая отравилась от отчаяния, потому что ее бросил любимый на третьем месяце беременности, а я вздыхал и говорил, что лучше бы она себя выскребла, а то и родила бы, чем так вот умереть в расцвете сил и зарыть в землю такую красоту, такие полные груди, такой гладенький безупречный живот, такие крутые покатые бедра, а между ними – эта фантастичная клумба, этот чудесный цветник, который она, очевидно, заботливо лелеяла, над которым колдовала и медитировала, лаская игривые кудряшки и обстригая непослушные вихорки вокруг этих полных набухших губ, что замерли в своей серьезности, как уста Джоконды. Пан Кнофлик взял меня пальцами за пуговицу и сказал:
– Наше первое правило звучит так: мы клиентов хороним, а не обсуждаем. Наше второе правило звучит так: мы всех хороним по высшему разряду – хоть убийцу, хоть невинную де вицу, да хоть лярву из-под левандовского моста . Каждый у нас обретет уютное дубовое или сосновое прибежище, устланное белым кружевом с бахромой, и букет цветов.
Тут он, правда, не был до конца искренним, потому что все же похоронная церемония отличалась в зависимости от пожеланий клиента, обычно постоянной плакальщицей была моя бабушка, но были и такие клиенты, которым мало было одной плакальщицы, и они заказывали себе целый хор, и мало им было одного меня в черном фраке и в черном цилиндре впереди катафалка, заказывали себе еще восемь мрачных мужчин в таком же черном одеянии, все они были похожи на воронов со своими острыми кривыми носами, узким продолговатым лицом, темными тенями под глазами и тонкими, почти синими губами. Один лишь вид их вселял страх смерти.
У пана Кнофлика была красавица жена, намного моложе него, она напоминала мне Венеру Милосскую, только с руками, когда она шла, то казалось, что это идет не жена директора похоронной конторы, а сама императрица, поскольку она не шла, а несла себя, соблазнительно покачивая бедрами, будто ехала верхом, и невозможно было от нее глаз отвести, но, к сожалению, она в основном пребывала в Кракове в санатории, излечивая какие-то таинственные женские болезни, но пан Штроуба был другого мнения.
– Может, она лечится, а может, и нет, – говорил он, покачивая головой, – но точно не у врачей, не-а… Такая пышная дама? Точно должна иметь какого-то хахаля. А Кнофлик – мужик порядочный, но в женщинах не разбирается.
Пан Штроуба был хозяином лесопилки в Брюховичах, и пан Кнофлик покупал у него доски для гробов, водились они много лет, так почему бы мне ему не верить? Тем более что пан Штроуба никогда не менял своих взглядов, когда кто-то обратил его внимание на то, что при входе на лесопилку висит надпись с ошибкой "Гробы на доски", а следовало бы написать "Доски на гробы", он сказал, что так даже лучше, потому что это привлекает внимание, и каждый, кто заметил ошибку, сразу спешит заявить о ней, а для этого, по меньше мере, придется зайти на лесопилку и поговорить с паном Штроубой. И вот я думал, почему же такая несправедливость? Пан Кнофлик всегда мне так хорошо говорит о своей жене, тоскует по ней, даже портрет ее повесил у себя над письменным столом, а она, шлюха, таскается неизвестно где. В конце июня 1937-го она приехала снова, загоревшая и сияющая, и была как кукла, а может, как Дева Мария, и такая же печальная, хоть и улыбалась, потому что улыбка та была не слишком радостная, скорее отчаянная, очевидно, она душой была еще там, откуда приехала, а тут попробуй-ка быть веселым, когда твой муж занимается таким невеселым делом, так ведь? Но пан Кнофлик был очень рад, и работа горела в его руках, а когда он правил катафалком, держа в одной руке вожжи, а в другой кнут, то видом своим напоминал египетского фараона на колеснице, казалось, вот-вот прозвучит его приказ идти в наступление, в последний решающий бой против римских легионов, а я размеренным шагом нес впереди крест, как флаг, следя за тем, чтобы быть в четырех шагах от конских голов, научившись уже по их фырканью определять расстояние. Иногда пани Власта Кнофликова выныривала где-то в толпе и приветливо махала нам рукой, и тогда пан Кнофлик радостно щелкал кнутом и чмокал лошадям, а лошади трясли черными гривами. Мне всегда было приятно смотреть на Власту, такая она вся была просветленная и солнечная, и голос у нее был медовый, глубокий, и когда она появлялась в нашей конторе, то казалось, что количество окон мгновенно увеличивается, потому что становилось светлее и свежее, а когда она угощала нас кофе, у пана Боучека всегда дрожали руки, и он с грохотом ронял на пол рубанок, брал у нее кофе, и слышно было, как позвякивает ложечка, а я любовался ее тоненькими пальчиками с розовыми лепестками ноготков, казалось, эти ноготки только что вспорхнули с цветка, и мне хотелось коснуться ее пальцев, взять их в свою руку и почувствовать их упругость, а потом прижаться губами и вдохнуть их запах, иногда действительно удавалось их коснуться, когда я брал из ее рук чашку, и тогда по телу у меня пробегала какая-то непостижимая дрожь, как электрический разряд, но не сильный, во всяком случае я ничем себя не выдавал, по крайней мере так мне казалось, но всякий раз в такие моменты Власта заглядывала мне в глаза, и уголки губ ее трепетали то ли от желания улыбнуться, то ли что-то сказать, но мне этот трепет губ не говорил ни о чем, а вот пан Штроуба имел свое мнение.
– Шлюха – она и есть шлюха, – вздыхал он над кружкой пива, когда мы сидели в шинке, который из-за своего соседства с кладбищем назывался "Под трупом", и ели фляки. – О-о, чего я только о ней не слышал! Лучше промолчать. Такая сумеет какие хочешь деньги профукать… лечится она… знаю я эти лечения… Еще две кружки!.. А Кнофлик – мужик порядочный, за что ни возьмется, везде ему везет… Только с женой не повезло…
И тут пришел пан Кнофлик, сел рядом с нами и заказал себе пива.
– Завтра у нас люксовые похороны, умер великий поэт, Богдан-Игорь Антоныч. Прожил всего двадцать восемь лет… Сколько еще мог человек хорошего создать, так вот же… не судилось…
– У меня есть его книги, – сказал я. – Завтра, наверное, будет толпа людей, так же?
– Еще какая! Такого человека хоронят! Мне уже заказали три десятка венков, было бы еще больше, но с некоторых пор у украинцев пошла такая мода, вместо того, чтобы тратить деньги на венок, дают деньги на журнал или на какой-то фонд и завещают: "Вместо венка на могилу столько-то, а столько-то даем на то-то и то-то". Боже сохрани, чтобы я это осуждал, но как я должен в такой ситуации выживать? Мало того, что братья Пацюрки у меня клиентов отбивают, так среди украинцев еще одна мода пошла: "Свой к своему за своим". И теперь патриоты, если есть выбор, так идут только в украинские лавки. Но при чем тут гробы и катафалки? За чем за своим? За гробом? Что я, чех, похороню кого-то хуже, чем украинец? На войне я был санитаром, и тоже приходилось хоронить. Иногда по двадцать-тридцать трупов за день. Пан поручик мне говорит: "Ох, Иржик, еще не раз они к тебе во снах придут". Но нет, никто не пришел. Все они чин чином умерли, а я их чин чином похоронил. Чего бы им приходить?
– Э-э, не говорите, всякое бывает, – вздохнул пан Штроуба. – Два года тому назад похоронили торговку с Лычаковской. Баба была – гром, здоровая, как бычара. Видели б вы, какие она мешки на себе таскала! А бывало и пьяного мужа из кнайпы. Еще и не такая уж старая была. Но как-то раз легла спать и больше не встала. А где-то через полгода и муж ее откинулся. Некому было его среди зимы из кнайпы домой донести, вот он и замерз. Ну, и хоронили его рядом с ней. Раскопали могилу, и что же видят? Крышка гроба сдвинута, а она лежит на боку, и все ногти у нее обгрызаны!
– Свят-свят! – оторопел шинкарь пан Соломон, который как раз принес нам пиво. – Бедняжка с голоду пообгрызала!
– С какого там голоду! От потрясения! Представьте себе, просыпаетесь вы в гробу! А над вами куча земли! А? Кто бы умом не рехнулся?
– Слышал я, слышал об этом, – сказал пан Кнофлик. – Она даже поседела в том гробу.
– Правду сказать, это вообще-то неплохо, шо людишки мрут потихоньку, не? – спросил шинкарь. – А то шо бы было, если бы так вот вдруг взяли и сошлись все ко мне? Пусть даже только те, кого я помню. Так я б не знал, ни где их посадить, ни как их обслужить… Один только пан Кутернога чего стоил!
– А как же, – сказал пан Кнофлик, – метр восемьдесят в длину и восемьдесят сантиметров в ширину. Дородный был мужик! Мы его вчетвером еле-еле в гроб запихали.
– Да, да, – качал головой пан Штроуба. – Всех нас это ждет. Четыре доски и земли немножко…
– Ай, где там четыре! – замахал руками пан Кнофлик. – Пошло целых шесть! Чистый бук! Ну, давайте, рассказывайте дальше… – кивнул он шинкарю.
– Пан Кутернога, – продолжил шинкарь, – мог за ужином выпить две дюжины кружек пива и закусить целым запеченным гусем. А до этого мог уплести тареляку тушеной капусты с колбасками и с десяток больших кныдлей с подливкой.
– А с какой, простите, подливкой? – поинтересовался пан Штроуба.
– Сливочно-томатно-луковой, – продекламировал трактирщик и облизнулся.
Пан Штроуба с паном Кнофликом тоже жадно облизнулись и почти хором произнесли:
– А не могли б вы нам…
– Мог бы! – обрадовался пан Соломон. – Вот что значат клиенты, которые держат фасон! Уже несу!
Пока шинкарь готовил кныдли, я смотрел на его хорошенькую дочку за стойкой и вспоминал, как еще недавно мы с Яськой, Йоськой и Вольфом подбивали к ней клинья, а папаша очень злился и не позволял Ребекке нас обслуживать, загонял ее за стойку мыть стаканы. Не найдя другого способа отомстить, мы срывали злость на самом шинкаре. Однажды я позвонил ему:
– Пан Соломон, я хочу спросить, какой длины у вас телефонный провод.
– Довольно длинный.
– Только подробнее, в метрах, это нужно для статистики.
– Около трех метров.
– Ну, так можете на нем повеситься!
В другой раз позвонил Вольф и поинтересовался, есть ли у пана Соломона теплая вода.
– Сейчас проверю, – сказал шинкарь, а через минуту вернулся и сообщил, что есть.
– Тогда мойте ноги и ложитесь спать.
Так мы подшучивали, может, с неделю, пока нам не надоело и мы не утратили интереса к Ребекке. Пан Соломон, конечно, не догадывался, кто над ним издевался, но догадывалась его дочь и всегда поглядывала на меня исподлобья, словно ожидая очередной выходки. Но вот нам уже принесли кныдли с подливкой, и мы, вдохнув их пьянящий аромат, сначала опорожнили кружки, а потом приступили к еде. Пан Соломон горой нависал над нами, сложив свои короткие толстые руки на животе, и с довольным видом кивал головой, любуясь, как мы уплетаем его вкуснятину, а мы кивали ему и пальцами показывали, мол, люкс, первый класс. Пан Штроуба, довольно улыбаясь, причмокивал:
– Как здорово так вот засесть иногда в кнайпе, пить пиво или водочку, есть кваргли, шкварки, кныдли и совсем ни о чем не думать. Не думать о том, часто ли мы будем иметь такое счастье.
– Это, знаете, – поднял глаза к потолку Соломон, – если будете жить долго, так нечасто, а если недолго, то часто.
Но не успели мы понять всей глубины этой Соломоновой премудрости и доесть кныдли, как вдруг в кнайпу влетел конюх и принялся шевелить губами, как рыба, беззвучно, словно задыхаясь, но по движению его губ можно было догадаться, что повторяет он два слова "пани Власта", и пан Кнофлик сорвался с места: "Что? Что случилось?", но конюх только руками махал, и тогда мы все бросились бежать к похоронной конторе, а пан Кнофлик бежал так, что мы с паном Штроубой едва за ним поспевали, и уже издалека увидели, что там собралась куча народу, и когда они расступились, а мы влетели внутрь, то увидели Власту, она висела на шнурке, перекинутом через балку, а на столике лежали какие-то бумаги, как потом мы узнали, это была выписка из больницы, где она лечилась с диагнозом "рак легких". И я видел, как пан Штроуба хлюпал носом и утирал глаза, и ему было стыдно за то, что он раньше о ней говорил, а пан Кнофлик рвал на себе волосы и кричал: "Я вас всех похороню! Всех!"
Со смертью Власты похоронная контора чуть не лопнула, потому что пан Кнофлик, который видел тысячи смертей, похоронил тысячи людей и мог говорить о смерти, как о чем-то совершенно обыденном, как, скажем, о погоде или о лошадиных скачках, смерти самого близкого человека пережить не смог и запил, а мы с паном Боучеком с трудом справлялись, пока не прошел месяц и пан Кнофлик пришел таки в себя и приступил к работе, правда, потерял при этом не только свое хорошее настроение, но и ухоженный элегантный вид, он уже не брился ежедневно, как раньше, зарос и опустился, стал молчаливым и замкнутым, часто мог ни с того ни с сего разораться и устроить скандал, взрываясь гневом и безудержным потоком слов, глухому Боучеку это было по барабану, он только согласно тряс головой, а мне в конце концов это надоело, и я бросил работу, которую уже успел даже полюбить.
10
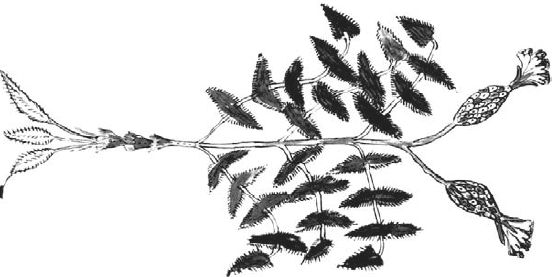
Читая рукопись, Ярош не раз ловил себя на странном и неосознанном до конца ощущении, в его воображении внезапно возникали вполне зримые образы, яркие видения от прочитанного, семья Барбарык становилась ему все ближе, и его начинал манить тот удивительный мир, который пропал без вести вместе с людьми, его населявшими, провалился в глубь времен, как Атлантида, а когда вынырнул снова, то уже выглядел иначе, утратив все те краски, звуки и запахи, которые царили тут когда-то, никто их уже не возродит, как бы ни старался. Его стали преследовать фантастические видения, иногда слышались голоса, пробивались сквозь него, как ветер сквозь листву, может, они и не к нему были обращены, но из глубины ночи те голоса словно звали кого-то по имени – чье же это имя, если не его? – далеко-далеко на фоне ясной луны виднелась молчаливая фигура женщины, которая двигалась медленно, и шорох ее шелкового платья доносился до его ушей, это ее имя произносили таинственные голоса сквозь него, сквозь листву, траву и песок, ее имя, влажное и теплое, растекалось молоком по устам травы, поскрипывало на зубах песка, растворялось в теплой воде ночи, черные бабочки рассвета порывисто трепетали крылышками, и черная пыльца осыпалась на ее следы, но прежде чем она приблизилась настолько, чтобы можно было ее разглядеть или узнать, тело ее растворилось в предрассветной мгле.