- Подумайте, - сказал в заключение доктор и последовал за Мирабо. - Однако для начала подчинитесь предписаниям Факультета и обещайте мне не снимать этот замок. Вы найдете в окрестностях Парижа десять, двадцать, пятьдесят не менее подходящих, чем этот.
Возможно, вняв голосу разума, Мирабо и пообещал бы исполнить просьбу доктора, но вдруг в наступающих вечерних сумерках ему почудилась за увитым цветами окном дама в юбке из белой тафты с розовыми воланами; Мирабо показалось, что женщина ему улыбнулась, однако он не успел хорошенько рассмотреть ее лица, потому что в ту минуту, как Жильбер, почувствовавший в своем пациенте некоторую перемену, попытался определить причину нервной дрожи, ощутив ее в руке Мирабо, на которую он опирался, и взглянул в том же направлении, что и Мирабо, дамская головка сейчас же исчезла, в окне лишь слегка трепетали розы, гелиотропы и гвоздики.
- Итак, - продолжал настаивать Жильбер, - вы не отвечаете.
- Дорогой доктор! - отвечал Мирабо. - Помните, как я ответил королеве, когда, уходя, она пожаловала мне для поцелуя руку: "Ваше величество, этот поцелуй спасет монархию!"
- Помню.
- Я принял на себя в ту минуту тяжелое обязательство, особенно если учесть, что меня оставили в одиночестве. Однако я не могу не исполнить своего обещания. Не будем пренебрегать самоубийством, о котором вы, доктор, говорили. Возможно, это будет единственно возможный способ достойно выйти из создавшегося положения.
Спустя два дня Мирабо приобрел с помощью эмфитевтического договора замок Маре.
IV
МАРСОВО ПОЛЕ
Мы уже попытались объяснить нашим читателям, в какой крепкий узел сплелась вся Франция благодаря федерации, а также какое воздействие эта отдельная федерация оказала на последующее объединение всей Европы.
Ведь Европа понимала, что настанет день - только вот когда: будущее было скрыто во мраке неизвестности, - когда вся она тоже превратится в одну огромную федерацию граждан, в громадное сообщество братьев.
Мирабо стремился к этому объединению. В ответ на высказанные королем опасения он заявил, что если и возможно спасение королевской власти во Франции, то искать его следует не в Париже, а в провинции.
Уместно будет заметить, что это объединение людей, прибывших со всех уголков Франции, должно было дать большие преимущества: король встретился бы со своим народом, а народ увидел бы своего короля. Когда все население Франции, представленное тремястами тысячами посланцев - буржуа, магистратами, военными, - прокричит на Марсовом поле "Да здравствует нация!" и возьмется за руки на развалинах Бастилии, то кучка придворных, ослепленных или заинтересованных в ослеплении короля, не сможет больше ему сказать, что Парижем управляет горстка мятежников, требующих свободы, о которой Франция и не помышляет. Нет, Мирабо рассчитывал на рассудительность короля; нет, Мирабо рассчитывал на еще жившую тогда в сердцах французов веру в королевскую власть и предсказывал, что из дотоле невиданного, неизвестного, неслыханного единения монарха со своим народом может родиться священный союз, и никакой интриге не будет под силу разорвать его.
Гениальным личностям тоже свойственно допускать возвышенные глупости, из-за которых последние политические прихвостни будущего считают себя вправе поднимать их память на смех.
Предварительная федерация уже прошла, так сказать, стихийно на землях Лиона. Франция, инстинктивно стремившаяся к единству, надеялась, что решающее слово этого единства сказано в деревнях Роны; тогда же она поняла, что Лион мог, конечно, обручить Францию с гением свободы, но повенчать их должен Париж.
Когда предложение о всеобщей федерации было внесено в Национальное собрание мэром и Коммуной Парижа, которые не могли дольше сдерживать другие города, среди слушателей произошло большое движение. Мысль привести бескрайнюю людскую толпу в Париж, извечное место волнений, была осуждена обеими враждовавшими партиями Палаты: и роялистами и якобинцами.
По мнению роялистов, появилась угроза гигантского повторения 14 июля, только на этот раз не против Бастилии, а против королевской власти.
Что сталось бы с королем в этом пугающем столкновении различных страстей, в этой ужасающей борьбе противоречивых мнений?
С другой стороны, якобинцы не знали, какое влияние на народ может оказать Людовик XVI, и потому не менее своих противников опасались этого собрания.
В глазах якобинцев подобное единение ослабило бы общественный дух, оно могло усыпить бдительность, пробудить былое обожествление короля - одним словом, укрепить во Франции королевскую власть.
Однако они не видели способа противостоять этому движению, не имевшему себе равных с тех пор, как в XI веке для освобождения Гроба Господня поднялась вся Европа.
Пусть не удивляется читатель - оба эти движения не настолько отличаются друг от друга, как могло бы показаться: первое дерево свободы было посажено на Голгофе.
Национальное собрание сделало все возможное, чтобы единение было менее значительным, чем ожидалось. Обсуждение оттягивалось таким образом, чтобы с теми, кто прибывал с самых окраин королевства, произошло то же, что с представителями Корсики во время Лионской федерации: как те ни торопились, они все равно прибыли лишь на следующий день.
Кроме того, дорожные расходы были отнесены на счет местных властей. А ведь некоторые провинции были очень бедны - все об этом знали, - и не приходилось даже надеяться, что, несмотря на все свои усилия, они смогут оплатить хотя бы половину пути депутатов или, вернее, четверть всех дорожных расходов, так как тем необходимо было не только добраться до Парижа, но и вернуться домой.
Однако Собрание не приняло во внимание общественного энтузиазма. Оно не взяло в расчет складчины, в которой богатые принимают двойное участие, платя и за себя и за неимущего. Оно не подумало о возможностях гостеприимства, а вдоль дорог между тем раздавались крики: "Французы! Отворяйте двери, к вам едут братья с другого конца Франции!"
И этот призыв был встречен с особым воодушевлением: распахнулись все двери до единой.
Не существовало более ни чужаков, ни посторонних; повсюду был французы, родственники, братья. Милости просим, пилигримы великого празднества! Заходите, национальные гвардейцы! Идите к нам, солдаты! К нам пожалуйте, моряки! Заходите к нам! Вас ждут отцы, матери, жены, чьих сыновей и мужей в другом месте встретят с тем же радушием, с каким мы принимаем вас!
Если бы кто-нибудь мог, подобно Христу, вознестись пусть не на самую высокую гору на земле, но хотя бы на самую высокую гору Франции, ему открылось бы величественное зрелище: триста тысяч граждан, шагающих к Парижу, словно лучи звезды, сбегающиеся к центру.
Кто же возглавлял этих пилигримов свободы? Старики, нищие ветераны Семилетней войны; младшие офицеры времен битвы при Фонтенуа, выслужившиеся из рядовых офицеры, те, что добились лейтенантского чина или эполет капитана ценой упорного труда, отваги и беззаветной преданности; бедняги, которые как рудокопы были вынуждены собственным лбом пробивать гранитные своды старого военного режима; моряки, завоевавшие Индию вместе с Бюсси и Дюплексом, а потом потерявшие ее с Лалли-Толландалем; едва живые развалины, разбитые пушечными ядрами на полях сражений, истрепанные во время морских приливов и отливов. В эти последние дни восьмидесятилетние старики проделывали по десять - двенадцать льё, лишь бы прибыть вовремя, и они прибыли вовремя.
Перед тем как сойти в могилу и заснуть вечным сном, они нашли в себе силы юности.
И все это случилось только потому, что родина подала им знак, одною рукой подозвав к себе, а другою указав на будущее их детей.
Впереди них шла Надежда.
Все они пели одну и ту же песню, независимо от того, откуда они шли: с севера или с юга, с востока или с запада, из Эльзаса или из Бретани, из Прованса или из Нормандии. Кто научил их этой песне с тяжелой рифмой, похожей на старинные гимны, с которыми крестоносцы переплывали моря Архипелага и переходили равнины Малой Азии? Никому это неведомо; может быть, ангел обновления стряхнул ее со своих крыльев, пролетая над Францией.
Этим гимном была знаменитая песня "Дело пойдет", но не та, что пели в 1793 году; 1793 год все изменил, исказил: смех обратил в слезы, а пот - в кровь.
Нет, вся Франция, снявшаяся с насиженных мест, чтобы принести в Париж всеобщую клятву, тогда не могла петь слова угрозы, она не говорила:
Дело пойдет, и пойдет, и пойдет!
Аристократам фонарь уготован.
Дело пойдет, и пойдет, и пойдет!
Аристократов повесит народ.
Нет, Франция пела не гимн смерти, а гимн жизни; это была не песнь отчаяния, а песнь надежды.
Она на другой мотив пела следующие слова:
Слышишь, кругом повторяет народ:
Дело пойдет, и пойдет, и пойдет!
Новый закон справедливо рассудит,
Все по евангельской мудрости будет:
Тех, кто высо́ко, падение ждет,
Те, кто унижены, выйдут вперед.
Дело пойдет, и пойдет, и пойдет!
Чтобы принять пятьсот тысяч человек из Парижа и провинций, нужна была огромная арена. Кроме того, необходимо было позаботиться об амфитеатре на миллион зрителей.
В качестве арены было выбрано Марсово поле.
Зрителей предполагалось разместить на холмах Пасси и Шайо.
Но Марсово поле было плоским. Требовалось углубить его середину, а вынутую землю насыпать по краям, устроив возвышения.
Пятнадцать тысяч землекопов - из тех, что вечно жалуются на безработицу, а про себя просят Бога о том, чтобы он не посылал им работы, - городскими властями были отправлены с лопатами, заступами и мотыгами на Марсово поле, чтобы превратить эту равнину в ложбину, окруженную огромным амфитеатром. Эти пятнадцать тысяч человек должны были всего за три недели выполнить этот титанический труд, однако уже спустя два дня после начала земляных работ стало ясно, что им понадобится не менее трех месяцев.
Впрочем, они, возможно, больше получали ничего не делая, чем копая землю.
И тогда произошло чудо - по нему можно судить об энтузиазме парижан. За необъятную работу, которую не могли или не хотели выполнить несколько тысяч бездельников, взялось все парижское население. В тот же день как город облетел слух, что Марсово поле не будет готово к 14 июля, сто тысяч человек поднялись как один и сказали с тою уверенностью, с какою выражается воля народа и воля Божья: "Оно будет готово!"
К мэру Парижа от имени ста тысяч добровольцев была направлена депутация, и они договорились, что парижане, дабы не мешать наемным землекопам, будут работать по ночам.
Вечером того же дня в семь часов раздался пушечный выстрел, возвестивший окончание рабочего дня и начало ночной смены.
Вслед за пушечным выстрелом на Марсово поле со всех четырех концов - со стороны Гренель, со стороны реки, со стороны Гро-Кайу и со стороны Парижа - хлынул народ.
Каждый шагал со своим инструментом: кто с мотыгой, кто с заступом, кто с лопатой, кто с тачкой.
Другие катили бочки с вином под звуки скрипок, гитар, барабанов и флейт.
Люди всех возрастов, полов, сословий смешались в одну толпу: горожане, солдаты, аббаты, монахи, дамы, рыночные торговки, сестры милосердия, актрисы - все орудовали заступами, катили тачки или тележки. Впереди шагали дети, освещая факелами дорогу. Музыканты старались изо всех сил, и песня "Дело пойдет" заглушала шум и гам, подхватываемая сотней тысяч человек, а им вторили триста тысяч голосов, летевших со всех концов Франции.
Среди наиболее ревностных землекопов выделялись двое, прибывшие в числе первых добровольцев. Они были в военной форме; один из них был сорокалетний, коренастый здоровяк, смотревший исподлобья.
Он не пел и почти все время работал молча.
Другой был двадцатилетний юноша с открытым, улыбающимся лицом; у него были огромные голубые глаза, белоснежные зубы, светлые волосы, крепкие ноги с большими ступнями и крупными коленями. Он без отдыха поднимал здоровенными руками неимоверные тяжести, не останавливаясь катил тачку или тележку, пел не умолкая, искоса поглядывал на товарища и время от времени поддерживал его добрым словом, которое тот оставлял без ответа, подносил ему стаканчик вина, которое тот отталкивал, возвращался на свое место, пожимая плечами, и снова принимался за работу и копал за десять человек, а пел за двадцать.
Оба они были депутатами от нового департамента Эна. Департамент был расположен всего в десяти льё от Парижа; услышав, что в столице не хватает рабочих рук, они поспешили предложить: один - свою молчаливую помощь, другой - шумное и веселое участие.
Это были Бийо и Питу.
А теперь вы расскажем читателю о том, что происходило в Виллер-Котре на третью ночь после их прибытия в Париж, то есть в ночь с 5 на 6 июля, в то самое время, как мы их увидели на земляных работах.
V
ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ ЯВСТВУЕТ, ЧТО СТАЛОСЬ С КАТРИН, НО СОВСЕМ НЕ ЯСНО, ЧТО ЕЕ ЖДЕТ В БУДУЩЕМ
В ту самую ночь с 5 на 6 июля около одиннадцати часов вечера доктор Реналь улегся в постель в надежде, которая так часто обманывает хирургов и врачей, - в надежде выспаться. Его разбудили три громких удара в дверь.
Как помнит читатель, славный доктор, если к нему звонили или стучали ночью, имел обыкновение отпирать сам, чтобы как можно скорее прийти на помощь нуждавшимся в нем людям.
На сей раз он, как обычно, вскочил с постели, накинул шлафрок, надел домашние туфли и поспешил по узкой лестнице вниз.
Как он ни торопился, ночному посетителю ждать не было, видимо, никакой возможности: он опять забарабанил в дверь и стучал до тех пор, пока дверь неожиданно перед ним не распахнулась.
Доктор Реналь узнал лакея, уже приходившего к нему однажды ночью от имени виконта Изидора де Шарни.
- О-о! - воскликнул доктор. - Это опять вы, друг мой! Это не упрек, прошу меня правильно понять. Однако если ваш хозяин снова ранен, пусть поостережется: не стоит гулять там, где пули сыплются градом.
- Нет, сударь, - отвечал лакей, - речь идет не о хозяине и не о ране, но на этот раз дело также не терпит отлагательства. Одевайтесь, сударь! Вот лошадь, я вас жду.
Доктору никогда не нужно было больше пяти минут на сборы. Теперь же по голосу лакея и в особенности по его нетерпеливому стуку он понял, что его очень ждут, а потому уложился в четыре минуты.
- Вот и я! - произнес он, снова появляясь на пороге.
Лакей не спешивался и держал в руках повод лошади, предназначенной для доктора Реналя. Тот вскочил в седло и, вместо того чтобы поехать налево, как это было в прошлый раз, поскакал вслед за лакеем направо.
Итак, сейчас его приглашали в сторону, противоположную Бурсонну.
Он миновал парк, оставив Арамон слева, въехал в лес и вскоре оказался в такой его пересеченной части, что дальше добираться на лошади было просто невозможно.
Вдруг прятавшийся за деревом человек шагнул ему навстречу.
- Это вы, доктор? - спросил он.
Не имея представления о намерениях незнакомца, доктор на всякий случай остановил коня, однако, узнав голос виконта Изидора де Шарни, отвечал:
- Да, это я. Что это за чертова дыра? Куда вы меня завели, господин виконт?
- Сейчас увидите, - сказал Изидор. - Можете спешиться; прошу вас следовать за мной.
Доктор слез с коня. Он начинал догадываться.
- A-а! Держу пари, что речь идет о родах! - воскликнул он.
Изидор схватил его за руку.
- Да, доктор, и потому обещайте мне хранить молчание, хорошо?
Доктор пожал плечами, будто хотел сказать:
"Ах, Боже мой, да не беспокойтесь, мне и не такое доводилось видеть!"
- В таком случае пожалуйте сюда, - будто отвечая мыслям доктора, пригласил его Изидор.
Зашуршав опавшей листвой, оба они пошли среди падубов и гигантских буков, вскоре исчезнув в темноте; сквозь трепетавшие на ветру листья время от времени поблескивали звезды; путники спустились в такой глубокий овраг, куда, как мы уже сказали, не могли пройти лошади.
Спустя некоторое время доктор разглядел верхушку Клуисова камня.
- О-о! - воскликнул он. - Уж не в хижину ли папаши Клуиса мы идем?
- Не совсем, - заметил Изидор, - но это рядом.
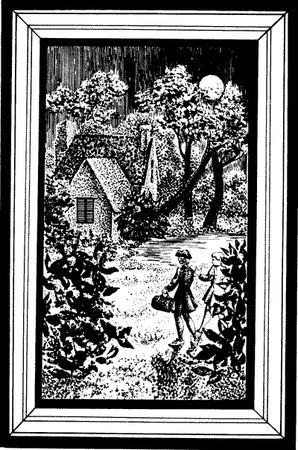
Обойдя огромную скалу, он подвел доктора ко входу в небольшой кирпичный домик, пристроенный к хижине старого гвардейца; можно было подумать - все кругом так и думали, - что старик сделал пристройку для собственного удобства.
Правда, стоило лишь заглянуть внутрь домика, и (даже если бы Катрин не лежала в эту минуту на кровати) сразу стало бы понятно, что это не так.
Стены оклеены прелестными обоями, на окнах - занавески в тон обоям; в простенке между окнами дорогое зеркало; под зеркалом туалетный столик с разложенными на нем предметами туалета из фарфора; два стула, пара кресел, небольшой диван и маленький книжный шкаф - таково было почти комфортабельное, как сказали бы в наши дни, внутреннее убранство, открывавшееся взгляду того, кто входил в эту комнатку.
Однако славный доктор не обратил на все это ни малейшего внимания. Едва увидев на кровати женщину, он поспешил к ней.
При виде доктора Катрин спрятала лицо в ладонях, но не могла ни сдержать рыданий, ни скрыть слез.
Изидор подошел к ней и назвал ее по имени. Она обняла его.
- Доктор! - сказал молодой человек. - Я вам вверяю жизнь и честь той, которая сегодня зовется лишь моей возлюбленной, но которую я надеюсь однажды назвать своей супругой.
- Как ты добр, дорогой Изидор! Спасибо тебе за эти слова! Ты прекрасно знаешь, что такая бедная девушка, как я, никогда не могла бы стать виконтессой де Шарни. Но моя признательность от этого не меньше. Ты знаешь, что мне будут нужны силы, ты хочешь меня поддержать. Будь спокоен, я ничего не боюсь. Самое страшное - показаться на глаза вам, дорогой доктор, и подать вам руку.
С этими словами она протянула руку доктору Реналю.
Но в этот момент приступ неведомой дотоле боли заставил Катрин изо всех сил вцепиться в руку доктора.
Тот многозначительно взглянул на Изидора, и виконт понял, что настал решающий момент.
Молодой человек опустился на колени перед кроватью больной.
- Катрин, девочка моя дорогая, - прошептал он, - я, наверное, должен был бы остаться с тобой рядом, поддержать тебя, приободрить. Но, боюсь, мне не вынести… Впрочем, если ты пожелаешь…
Катрин обхватила Изидора рукой за шею.
- Ступай! - приказала она. - Иди; спасибо за твою любовь, спасибо за то, что ты не можешь вынести даже вида моих страданий.
Изидор прижался губами к губам бедной девушки, еще раз пожал руку доктору Реналю и бросился вон из комнаты.