* * *
В феврале - марте 1891 г. на страницах одного из итальянских журналов была опубликована повесть Д’Аннунцио "Джованни Эпископо". В 1892 г. она появилась отдельным изданием, почти одновременно с которым вышел новый роман Д’Аннунцио - "Невинный" (переводился также под названием "Невинная жертва"). Оба эти произведения внутренне связаны новой для писателя проблематикой (хотя, конечно, в них есть продолжение и прежних, ранее наметившихся тенденций) и стоят особняком в его творчестве. Это наиболее интересный и плодотворный этап развития Д’Аннунцио как прозаика. Как в "Джованни Эпископо", так и в "Невинном" с большой силой сказалось воздействие на итальянского автора идей и художественной манеры Достоевского. Известный писатель и критик конца XIX века Луиджи Капуана писал о воздействии "Кроткой" на "Джованни Эпископо": "Наваждение было так велико, что Д’Аннунцио не заметил, как его Эпископо приобрел иностранный акцент… бормотал не о своих чувствах".
Сюжет повести, как и ее композиционная структура и стилистический строй, действительно свидетельствует об "учебе" Д’Аннунцио у автора "Кроткой" и "Братьев Карамазовых".
Сам он отнюдь не скрывал ни того огромного впечатления, которое произвело на него чтение произведений Достоевского, ни своего стремления овладеть определенными "секретами" его формы, стиля, повествовательными приемами.
Повесть "Джованни Эпископо" - рассказ от первого лица самого героя о своем трагическом уделе. Джованни - мелкий чиновник, робкий, слабовольный человек, подпавший под влияние своего сослуживца грубого и деспотичного Ванцера. Он женится на распутной Джиневре, прислуживающей в маленьком ресторанчике, посетители которого поочередно пользуются ее "милостями". Джиневра, цинично издеваясь над любовью Джованни, заставляет его пройти все ступени нравственного и гражданского падения: он опозорен не только ее поведением, но прежде всего своим смирением, покорством, которое все считают трусостью и подлостью. Джованни терпит все это ради своего маленького сына, который для него - единственная цель жизни, но отцовская любовь становится новым источником мучений, когда чуть подросший Чиро начинает все понимать и стыдится отца. Но однажды Джованни, увидев, как Ванцер поднял руку на ребенка, совершает свой единственный поступок - убивает Ванцера. Однако ни ребенок, ни отец не могут перенести ужаса убийства. Умирает Чиро, умирает и Джованни при последних словах своего рассказа-исповеди.
Уже из канвы сюжета видно, как своеобразно контаминируются здесь прежняя даннунцианская концепция непреодолимости, фатальности плоти и тема страдания униженных и оскорбленных, воспринятая у Достоевского. Весь художественный строй повести с совершенной очевидностью вдохновлен прежде всего "Кроткой" с ее задыхающейся, разорванной исповедью - внутренним монологом героя, стремящегося осознать Происшедшее, повествующим не по порядку, а вперебивку, ибо рассказчик часто "теряет нить" рассказа (и слова-то Достоевского!). Та же судорожная интонация, те же повторы, метания, обращения к слушателю. Однако арсенал психологического анализа и мастерство внутреннего монолога, усвоенные у Достоевского, служат у Д’Аннунцио для того, чтобы Джованни убедился в существовании непреодолимой, роковой силы, заставившей его покориться Ванцеру, влюбиться в Джиневру. Герой Д’Аннунцио не доискивается причин именно такого своего поведения; он повествует о своем внутреннем состоянии как о многолетнем роковом наваждении. Таков его фатум, которому он и не пытается больше сопротивляться.
Таким образом, психологическая нагрузка "исповеди" героев Д’Аннунцио и Достоевского принципиально разная. У Д’Аннунцио герой как бы "задан" со своим врожденным, неотвратимым комплексом приниженности и неполноценности. Герой Достоевского - "человек из подполья", остро мыслящий и социально детерминированный.
Подкрепленный открытиями творческой лаборатории Достоевского, талант Д’Аннунцио в этой повести достигает больших художественных высот. Таковы страницы, где автор сумел выразить щемящую, нестерпимую душевную боль, страдания ребенка и его отца, бессильного в своем стыде и горе.
Самый сильный и искренне звучащий мотив повести - это сочувствие к маленькому человеку, одинокому и приниженному, но сохранившему в отчаявшейся душе жертвенную любовь к сыну. Ребенок в повести "Джованни Эпископо" - мера всех вещей, детское страдание - тягчайшее преступление жизни. Этот "урок Достоевского" сделал повесть Д’Аннунцио не просто "опытом ассимиляции чужой формы", а гуманистическим призывом к состраданию и жалости.
Роман "Невинный", как и предыдущая повесть, написан в форме исповеди. Молодой аристократ Туллио Эрмиль излагает свою историю продуманно и четко; ибо страшное преступление, в котором он сознается, убийство ребенка - также было совершено им с выдержкой и спокойствием. Признание для него становится непреодолимой моральной потребностью.
Герой беспощадно судит собственную натуру, обуреваемую жаждой наслаждений, "любопытством развращенного ума".
Этот мотив самоосуждения, проходящий через все произведение, свидетельствует - об этом позже говорит и сам герой - о воздействии на него (и конечно, прежде всего на автора книги) этических взглядов Л. Толстого. Туллио рассказывает, как они вместе с женой читали "Войну и мир" и размышляли над словами старика масона, спросившего Пьера Безухова: "Довольны ли вы собой и своей жизнью?" Перед Туллио был также живой пример его брата Федерико, целиком отдавшегося труду в сельском хозяйстве. "Лев Толстой, поцеловав его в прекрасный белый лоб, назвал бы его своим сыном", - убежденно заявляет Туллио.
Но сам герой, восхищаясь душевной цельностью брата, не в состоянии пойти по этой дороге. Свою беспорядочную жизнь он оправдывает красивыми теориями о том, что, будучи незаурядным человеком, он свободен от общепринятых условностей и имеет право жить "сообразно своей природе".
Вместе с тем Туллио уже не тот эстет и "творец своей жизни", каким был герой "Наслаждения". Эрмиль - тип быстро реагирующего на чувственные и интеллектуальные импульсы человека, вместилище противоречивых страстей. Вместе с тем ему присуща проницательная интроспекция. Поддаваясь целой гамме вытесняющих друг друга чувств, он в то же время в состоянии внимательно следить за их сменой в своем сердце, констатировать собственное непостоянство, не будучи, однако, в силах воспрепятствовать ему.
Туллио тщится добиться полного самоотречения своей жены Джулианы, которая должна оставаться верной ему в то время, как он открыто изменяет ей. Однако, поехав с Джулианой на виллу, где они когда-то провели медовый месяц, полную весенней цветущей прелести (в описании переливов красок сиреневого сада Д’Аннунцио - колорист и пластик, - как всегда, торжествует победу), Туллио и Джулиана переживают пьянящее возвращение былой страсти. Тем горше наказание: Джулиана признается, что она ждет ребенка от другого - это плод отчаяния и одиночества, которые толкнули ее на измену без любви. Она на пороге самоубийства. А для Туллио наступает моральный кризис. В ушах его звучит безмолвный вопрос, который слышался из мертвых уст "маленькой княгини" Лизы Болконской: "Ах, что и за что вы это со мной сделали?" Он осознает свою вину и свой долг: воздать жене прощением за прощение, спасти ее и завоевать новое счастье, которого не могло бы быть без подлости всей его предшествующей жизни.
Такого героя в итальянской литературе еще не бывало. При некоторой смутности, перебивчатости психологической линии банальная адюльтерная история скручивается в сложный психологический узел. Туллио, преодолевший чувство ревности, не в силах перебороть нарастающую в нем ненависть к ребенку, подкрепляемую услужливыми доводами рассудка: смерть малыша принесет покой в душу Джулианы, в душу его самого. И в рождественскую ночь, когда все домочадцы в церкви, Туллио хладнокровно выставляет обнаженное тельце новорожденного на холод и снег в открытое окно. Тайна смерти ребенка остается нераскрытой. Но тут наступает третья, решающая стадия моральных пыток Туллио. Глядя на бледное личико в гробу, Туллио снова слышит вопрос мертвых губ: "Ах, что и за что вы это со мной сделали?"
Рефлектирующий, эгоистичный, обуреваемый плотскими страстями герой осознал недозволенность убийства, бесчеловечность, неправедность насилия над беззащитными. И он громко спрашивает присутствующих на отпевании: "Знаете ли, кто убил этого невинного?" - вызывая ассоциации с евангельской притчей о младенцах.
Снова Д’Аннунцио разрабатывает великую тему Достоевского. Концовка "Невинного" варьирует финал "Преступления и наказания", когда Раскольникова в ссылке озаряет моральное просветление. Но для героя Д’Аннунцио ни покаяние перед судом, ни покаяние перед Богом ничего не дадут, он отвергает суд людской и небесный, он сам осудил и свое преступное деяние, и самого себя. Возвышенная моральная идея побеждает догму "вседозволенности", столь привлекательную для "избранных душ".
Опыт Достоевского и Толстого открывал для Д’Аннунцио плодотворные творческие перспективы. Но два последующих романа конца века - "Триумф смерти" (1894) и "Девы скал" (1895) - показали, что иное начало возобладало в авторе и увело его от "русских ориентиров".
И не только от русских. В 1893 г. появились три статьи Д’Аннунцио "Мораль Эмиля Золя". Со своей способностью остро ощущать зарождающиеся идейные и художественные тенденции, автор засвидетельствовал "смерть" натурализма и позитивизма, кризис рационалистических рецептов прогресса. Он писал:
"Опыт закончен. Наука неспособна вновь заселить опустевшее небо, вернуть счастье душам, которых она лишила наивного мира. Мы больше не хотим правды. Дайте нам мечту. Мы обретем отдых только под сенью Непознанного".
Мечта, Идеал, Красота, Тайна, торжество индивидуализма, противопоставляемые материалистическому познанию, - таковы новые мифы, в которые в Италии облекается идеология этой эпохи, в парадоксальной форме возвещаемая декадентством. Эти риторические постулаты рождались в культуре конца прошлого века из яростного отрицания нищей, заурядной официальной Италии и ее парламентской системы, разъеденной коррупцией. Тем ослепительнее выглядели мечты об иной Италии, об ее античных традициях, о величии и престиже латинской расы, мечты, облаченные в одежды даннунцианского эстетизма. Неустанный экспериментальный поиск приводит Д’Аннунцио к модели ницшеанского сверхчеловека, в котором он увидел воплощение собственного витализма - идеи "дионисийской", плотской жизненной силы, - и автор выступает здесь как глашатай и проводник этих идеологических позиций.
Роман "Девы скал", не внося ничего существенно нового в закрепившуюся структуру даннунцианского романа, уже более детально представляет образ героя, проповедующего пышные постулаты "сверхчеловеческого" мессианства латинской расы и зовущего к энергическим действиям, хотя сам молодой аристократ духа совершенно бездеятелен и даже не в состоянии помочь своим кузинам - "девам скал" - выйти из круга одиночества.
Д’Аннунцио создает здесь шедевр описания бьющих фонтанов старого замка. Это, пожалуй, вершина художественного изображения языковыми средствами звуков, форм, движения.
Несколько особняком стоит в творчестве Д’Аннунцио роман "Пламя" (1900), в котором автор с эпатирующей откровенностью изобразил свою связь с великой актрисой Элеонорой Дузе - ей он был обязан очень многим в своей карьере драматурга. Разрыв между ними и публикация романа стали международным светским скандалом, на что Д’Аннунцио, впрочем, охотно шел, создавая свой "имидж". Однако, несмотря на скандальную славу романа, великая трагическая актриса Форнарина (под этим именем выведена Дузе), с ее талантом, гордостью, упоением своим трудом, чувством любви, - пожалуй, единственный обаятельный женский образ во всей прозе Д’Аннунцио. Перед нею меркнет обаяние главного героя - поэта и трибуна Стелио, в котором автор изобразил себя, присвоив себе атрибуты и любовника, и сверхчеловека. Его пышные речи бледнеют в сравнении с простым рассказом Форнарины о ее нищем детстве в повозке бродячего театра. Это - подлинная правда жизни, которая - в сочетании с великолепными описаниями художественных памятников Венеции обеспечила успех романа и доныне спасает его от забвения.
Последний из романов Д’Аннунцио, написанный незадолго до первой мировой войны, "Быть может - да, быть может - нет" (1910), наглядно свидетельствует о том, как комплекс идей расового превосходства и завоевательных притязаний губил то живое и талантливое, что содержалось в художественном мастерстве писателя. Главный герой этого романа - летчик Паоло, воплощающий все тот же идеал "сверхчеловека латинской расы". Д’Аннунцио восхищается работами в авиационном ангаре, картинно описывает "красоту" торпедной атаки подводной лодки. Воспевание техники, скорости, риска роднит эстета-декадента Д’Аннунцио с футуристом Маринетти - здесь они, пожалуй, впервые "выходят на одну прямую".
Рядом с образом героя-сверхчеловека возникает "сверхженщина" с ее комплексом "любви-ненависти" - демоническая Изабелла, которую ее сестра Вана ревнует к победительному Паоло. Развязка романа, как всегда распадающегося на плохо скрепленную цепь картин, - самоубийство Ваны и сумасшествие Изабеллы. А Паоло совершает в годовщину гибели его друга-летчика смертельно опасный полет и поднимается на еще никем не достигнутую высоту. Увы, сам Д’Аннунцио как художник испытал в этом романе несомненное падение…
А ведь Д’Аннунцио был искренне увлечен авиацией. Готовясь к созданию своего "икарийского романа", он стал обучаться пилотажу. Но и тут остался верен себе: он эстетизирует даже авиаполет. "Я полечу только на моноплане Блерио, - писал он своей подруге, русской княгине Голубевой, - он единственный обладает прекрасной линией - похож на стилизацию египетского священного ястреба".
В 1910–1915 гг. Д’Аннунцио живет во Франции и, спасаясь одновременно от многочисленных долгов, ставит одну за другой свои драмы на парижской сцене. Это период интенсивного поэтического творчества. Д’Аннунцио открывает для себя новый жанр ритмической поэтической прозы, в значительной степени освободившейся от риторики и сохранившей все искусство пластического изображения живой природы. Лучшее, что создано им в этом жанре, - "Леда без лебедя" (1913), публикуемая в сборнике.
Творчество Д’Аннунцио было прервано войной, участие в которой стало для него не только делом патриотизма, но и формой героического самоутверждения. Он храбро сражался на море и в воздухе, потерял на войне глаз. После Версальского мира автор "Наслаждения" и "Пламени" в начале 20-х годов попал на гребень волны молодежного недовольства и попытался даже конкурировать с фашизмом, стать своего рода "третьей силой" в политической борьбе. Его оппозиция по отношению к Муссолини продолжалась вплоть до 1925 г., и "дуче" знал о популярности "затворника Витториале", то и дело выступавшего с туманными декларациями о "братстве свободных и бедных народов" и о "труде как основе жизни", подсылал к нему шпионов и в конце концов открыто приставил к поэту комиссара полиции. Пытался Муссолини и подкупить Д’Аннунцио: приобрел за крупную сумму для государства рукописи его драм, предлагал ему во владение старинную римскую виллу Фальконьери за символическую сумму в одну лиру.
Но Д’Аннунцио долго фрондировал; ему претил кровавый балаган фашизма, а подлое убийство депутата-социалиста Маттеотти по личному указанию "дуче" поэт публично назвал "зловонным делом". На телеграмму Муссолини, где упоминалась пресловутая "одна лира" в качестве платы за виллу, Д’Аннунцио телеграфно же ответил так: "Столь неожиданно прося у меня одну лиру ты подразумеваешь мою семиструнную цитру точка я имею то что подарил (речь идет о Витториале, которую Д’Аннунцио именно тогда передал в дар итальянскому народу. - 3. П.) и не хочу иметь того что мне дарят точка надеюсь быть понятым точка обнимаю тебя".
Утвердив свою диктатуру с помощью чрезвычайных законов, жестоко репрессировав левую оппозицию, Муссолини не стал прямо мстить Д’Аннунцио; он предпочел воздать ему почести, тем самым привязав поэта к своей триумфальной колеснице. Но он не простил ни дерзких колкостей своего соперника, ни дружеского визита народного комиссара иностранных дел России Чичерина в Витториале после генуэзской конференции 1922 г. по личному приглашению Д’Аннунцио, ни участия последнего в помощи голодающим Поволжья. Режим "забыл" про Д’Аннунцио-художника, который замкнулся в мрачном мирке Витториале. Доживая в одиночестве свой век, перестав быть неустанным новатором стиха, он в последние годы жизни много болел, не писал почти ничего, кроме воспоминаний…
Теперь, спустя более чем полвека, можно окончательно отсеять зерна от плевел. Никогда не умирало наследие Д’Аннунцио-поэта, автора прекрасных лирических стихотворений, неизменно включаемых в антологии и хрестоматии. Поэзией народной жизни проникнута его стихотворная драма "Дочь Иорио" - уникальное явление итальянского театрального жанра XX века. Великолепны деревенские новеллы, в которых Д’Аннунцио новаторски развивает многовековую традицию итальянского короткого рассказа.
Лирико-философские эссе, ритмическая проза его "Леды" и притч оказались даже более созвучны нашему времени, чем началу века, когда были созданы. А гений Лукино Висконти вернул "Невинного" широчайшим массам кинозрителей во всем мире.
Надеемся, что предлагаемый сборник "Леда без лебедя" не оставит русского читателя равнодушным к творчеству Габриеле Д’Аннунцио.
Невинный
© Перевод Н. И. Бронштейна
Блаженны непорочные…
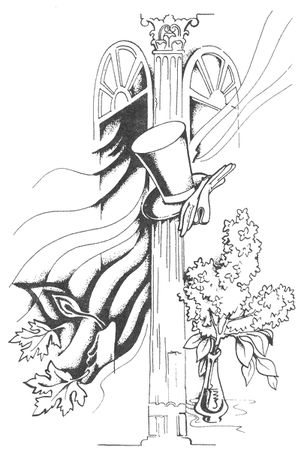
~~~
Прийти к судье, сказать ему: "Я совершил преступление. Это бедное дитя не погибло бы, если бы я не убил его. Я, Туллио Эрмиль, я сам убил его. Задумал убийство в своем собственном доме. Совершил его с полной ясностью сознания, по заранее рассчитанному плану, в полнейшей безопасности. И после этого продолжал жить со своей тайной, в своем доме, целый год, до нынешнего дня. Сегодня - годовщина. И вот я - в ваших руках. Выслушайте меня. Судите меня". Могу ли я прийти к судье, могу ли я говорить с ним так?
Не могу и не хочу. Суд людской - не для меня. Никакой земной суд не мог бы судить меня.
И все же я должен обвинить себя, исповедаться. Я должен раскрыть кому-нибудь свою тайну.
Кому?