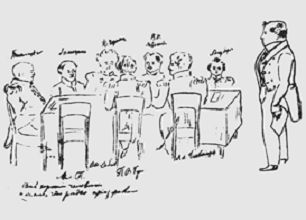П. Г. Каховский. Рисунок А. Питча с миниатюры 1820-х годов.
Еще в утренние часы декабристы разъехались в гвардейский Морской экипаж, Финляндский и лейб-гвардии Гренадерский полки. Время катастрофически утекало, поддержка московцам задерживалась, а к их каре уже подъехал Милорадович, предпринявший попытку убедить солдат вернуться в казармы. Для генерал-губернатора это был единственный шанс "сохранить лицо" и выразить решительное несогласие с бунтовщиками. Пора было признать, что в своих играх с ними он зашел непозволительно далеко. Популярность боевого военачальника оказалась столь велика, что его слова явственно смутили солдат. Но Петру Каховскому, смертельно ранившему Милорадовича, и Евгению Оболенскому, отогнавшему его лошадь штыком от каре, удалось удержать ситуацию под контролем. Необычайно приободрил декабристов приход к Сенату лейб-гренадеров под командованием А. Н. Сутгофа, а следом за ним прибыл и Морской экипаж. Теперь каре мятежников насчитывало более двух тысяч человек, и именно оно какое-то, пусть и непродолжительное, время являлось хозяином площади.
Николай Павлович, то ли уже император, то ли все еще соискатель короны, находился в растерянности, усугублявшейся растущим недоумением. Рядом с ним на площади не оказалось великого князя Михаила, застрявшего в казармах Московского полка, командующего гвардейской пехотой генерала Бистрома, ничего не было известно о настроениях Егерского и Финляндского полков, да и толпы народа вокруг площади вели себя все более агрессивно. Предпринимать в таких условиях активные действия против бунтовщиков казалось опасной авантюрой. Промедление с подобными действиями было для них равнозначно смерти. Наконец, Николай решился атаковать каре силами конной гвардии с двух позиций: от Адмиралтейства и от Сената.
Атака была неплохо задумана, но не удалась, причем вовсе не из-за отчаянного сопротивления восставших. Правда, Морской экипаж встретил конногвардейцев боевым залпом и даже ранил несколько человек, но остальные роты стреляли холостыми патронами, воздействуя на кавалерию чисто психологически. Главное же заключалось в том, что конная гвардия и не собиралась вламываться в ряды восставшей пехоты, сминая ее лошадями. Ни те ни другие не желали доводить дело до смертельной схватки. Повторные атаки кавалерии лишь подтвердили миролюбивое настроение солдат. Однако полки, присягнувшие Николаю Павловичу, все подходили и подходили к Сенатской площади. К 14.00 ее окружение было завершено. Но и собирание сил восставших на этом не закончилось, оставался батальон лейб-гренадер ов, который вел Н. А. Панов. Вот только куда этот батальон направлялся?
У многих исследователей создалось впечатление, будто Панов со своими солдатами пытался захватить Зимний дворец, арестовать царскую семью, что могло кардинальным образом изменить ситуацию в столице. Однако чисто тактическая обстановка во дворе Зимнего оказалась для лейб-гренадеров неблагоприятной. Дворец охранял полк гвардейских саперов, шефом которого являлся Николай Павлович, а на подходах к царской резиденции располагалась полурота Финляндского полка. Последняя, хотя и не сумела остановить солдат Панова, но оказалась у них в тылу. Попытавшись ввязаться в бой за Зимний, лейб-гренадеры неизбежно попали бы в "клещи" между саперами и финляндцами. Осознав это, Панов вывел свой батальон на Дворцовую площадь и двинулся дальше, к товарищам у Сената. В 14.30 девятьсот лейб-гренадеров присоединились к восставшим, силы которых росли, а вот тактика – пассивное противостояние правительственным войскам – не менялась. Ждали диктатора, его указаний, и никто не мог предположить, что диктатор на площади так и не появится…
Как это было? Отступление четвертое
Почему же Трубецкой не пришел в тот день на Сенатскую площадь? По мнению Николая I, великого князя Михаила Павловича и историка-царедворца М.А. Корфа, он оказался трусом и просто предал своих товарищей. Однако вряд ли такое заключение можно признать даже приблизительно соответствующим истине. Члены Южного общества декабристов, плохо знавшие Сергея Петровича, выдвинули свою версию случившегося. Они считали, что Трубецкому, обладавшему несомненным военным мужеством, не хватило гражданской смелости.
Видимо, подразумевалось следующее: князь, отважно воевавший с французами, не смог переступить через привычную покорность трону и поднять оружие против монарха и соотечественников. Интересное предположение, но вряд ли оно имеет отношение к поведению одного из старейших членов декабристских обществ, человеку, отнюдь не подверженному влиянию эмоций, разработавшему четкий план военного захвата Петербурга, а потому понимавшему, что без кровопролития дело, скорее всего, не обойдется.
В таком случае как же можно объяснить позицию диктатора в день восстания? Здесь много всего сошлось: и чисто военное, даже штабное, отношение к затеянному предприятию, и особенности характера Трубецкого, и общая утопичность планов дворянских революционеров, и прекраснодушие декабристов как представителей особого человеческого типа. Узнав об отказе Якубовича и Булатова выполнять утвержденный план действий, Сергей Петрович понял, что на Сенатской площади теперь ничего не решается. Он переместился к Зимнему дворцу в надежде, что какой-нибудь части восставших войск, спешащей к Сенату, удастся случайно захватить дворец и арестовать царскую семью. Имея на руках такие козыри, можно было начинать игру с новым императором. На Сенатской же площади Трубецкой не хотел появляться совсем не потому, что это было, с его точки зрения, бессмысленно. Если бы все обстояло так просто, то можно было бы с полным основанием говорить о том, что диктатор действительно бросил товарищей на произвол судьбы, трусливо обманул их ожидания.
Нет, все было гораздо тоньше и трагичнее. По обоснованному мнению Трубецкого, после его появления в каре восставших события могли развиваться лишь по одному из двух сценариев. Во-первых, он мог отдать приказ "своим" солдатам об атаке верных Николаю Павловичу войск. Однако к тому моменту, когда силы восставших сконцентрировались на площади, она была окружена 10–12 тысячами правительственных войск. Поэтому подобный приказ означал, скорее, массовое самоубийство, чем путь к победе. Во-вторых, Трубецкой мог попытаться уговорить солдат вернуться в казармы, сославшись на то, что "сила солому ломит", что Константин Павлович действительно отрекся от престола, а потому их дальнейшее противостояние Николаю бессмысленно. Однако он слышал, чем закончились подобные уговоры для М. А. Милорадовича, Н. К. Стюрлера, великого князя Михаила Павловича и других "парламентеров". То есть второй вариант тоже вел, пусть и в меньших масштабах, к пролитию невинной крови, не дававшему мятежникам никаких преимуществ.
Вряд ли С.П.Трубецкой, подобно Г. С. Батенькову или В. И. Штенгейлю, верил в то, что демонстративное неповиновение части гвардии, бравада оппозиции некой военной мощью заставит Николая пойти на переговоры с восставшими и приведет к смене политического режима. Нет, он просто не хотел брать на себя ответственность за кровопролитие, заранее обреченное на неудачу, за жертвы ради жертв. Его присутствие на Сенатской площади непременно приводило к такому исходу, а отсутствие среди восставших оставляло надежду на то, что власти удастся перевести ситуацию в мирное русло, уговорить солдат смириться с неизбежным.
Интересно, что позже, в Сибири, глухие обвинения в адрес Трубецкого изредка позволяли себе члены Южного общества или "Соединенных славян", т. е. те, кто не знал ни князя, ни всех обстоятельств дела. Северяне же и не пытались начать разговор о поведении диктатора 14 декабря, ощущая скрытый от них трагизм принятого им решения, всю меру взятой Трубецким на себя ответственности. Может быть, они и ждали от него объяснений, но ничем не выдали своих ожиданий. А Трубецкой ничего не мог рассказать товарищам по сугубо этическим соображениям, поскольку попытка объясниться тут же выводила разговор на поведение Якубовича и Булатова – истинных виновников отсутствия диктатора во главе восставших. Булатов же к тому времени умер, в отчаянии разбив себе голову о стену тюремной камеры, а у Якубовича бурно прогрессировало психическое заболевание, делавшее его все менее адекватным.
По прошествии лет всё или почти всё разъясняется, все или почти все получают то, что они заслужили, но 14 декабря 1825 г. отсутствие диктатора в рядах восставших, чем бы оно ни было вызвано, заметным образом повлияло на развитие событий.
При температуре минус 8 градусов московцы стояли у Сената около шести часов, моряки и рота Сутгофа – около четырех, гренадеры Панова – около двух. За исключением солдат Сутгофа, все были без шинелей, в одних мундирах, а потому мерзли и заметно теряли воодушевление. Редела и толпа народа вокруг Сенатской площади, разгоняемая осмелевшей полицией. Правда, расходились люди неохотно и не без угроз. "Рабочие и разночинцы, – свидетельствовал А. Е. Розен, – шедшие с площади, просили меня продержаться еще часок и уверяли, что все пойдет ладно". Продержаться еще часок означало дождаться темноты, а там… Опасность складывавшейся ситуации прекрасно осознавала и власть. Четыре орудия, вывезенные на площадь генералом Н. О. Сухозанетом, гипнотизировали Николая Павловича, подталкивая к решительным действиям.
Однако этому препятствовал целый ряд опасений монарха, которые при внимательном рассмотрении можно счесть серьезными основаниями для долгих колебаний власти. Во-первых, Николая ни в коей мере не прельщал имидж монарха, расчистившего себе путь к трону пушечными залпами. Во-вторых, он отнюдь не был уверен в том, что артиллеристы согласятся стрелять по братьям-солдатам. Более того, приказ открыть огонь по каре мог толкнуть артиллеристов в стан мятежников. В-третьих, расстрел восставших вполне мог спровоцировать возмущение в других гвардейских полках и многократно увеличить силы заговора. Император выжидал, а декабристы в это время выбирали нового диктатора, взамен не явившихся на площадь Трубецкого, Якубовича и Булатова.
В надвигавшейся спасительной темноте командование каре поручили Оболенскому. Однако ему не удалось собрать офицерский совет, поскольку младшие офицеры были деморализованы долгим бездействием и стремительно теряли надежду на победу. Оболенский обдумывал возможность отступления к военным поселениям, но она казалась призрачной, так как верные Николаю силы вряд ли без боя пропустили бы декабристов на Новгород и Старую Руссу. Восставшим оставалось только ждать, император же сохранял некоторую свободу выбора. Выбора очень тяжелого, грозящего непредсказуемыми последствиями, но тем не менее… Вожди декабристов еще продолжали осматривать позиции правительственных войск, особенно опасаясь выдвинутых против них орудий, а император уже отдал приказ стрелять по каре картечью, сам же, поворотив коня, направился к Зимнему дворцу.
Шесть залпов картечью из трех орудий (у пушек пришлось встать офицерам, поскольку рядовые отказались стрелять в своих) решили исход дела. Декабристы, правда, попытались собрать солдат, чтобы дать отпор кавалерии, преследовавшей побежавших с площади мятежников, но "картечи, по словам Н. А. Бестужева, догоняли лучше, нежели лошади". Сорвались попытки М. А. Бестужева и Е. П. Оболенского вести солдат на Петропавловскую крепость или Пулковские высоты. Восстание было разгромлено.
Согласно полицейским отчетам, в Петербурге 14 декабря погибли: 1 генерал, 18 офицеров, 262 солдата и 903 человека "черни". Обычная история – от вооруженных столкновений, особенно в крупных городах, больше всего страдают не их участники, а мирное население.
Наступала пора казематного противостояния дворянского авангарда и власти – время следствия и суда над декабристами. Вот когда оправившаяся от потрясений государственная машина начала в полной мере мстить оппонентам за свой страх. Ужас перед возможными арестами принял такой массовый характер, что над страной буквально повис дым от сжигаемых писем, дневников, деловых бумаг. Не обошлось, естественно, и без хорошо нам знакомого "лес рубят – щепки летят". Так, когда на следствии прозвучала фамилия Красносельского из 3-го Уланского полка на Украине, были арестованы и доставлены в Петербург все трое братьев Красносельских. Через неделю перед ними пришлось из – виниться и за казенный счет отправить обратно в полк. Арестовывали людей, живших в одной квартире с декабристами или случайно увлеченных толпой народа, бежавшего с Сенатской площади. Был, например, взят под стражу регистратор М. Васильев, который, будучи в сильном подпитии, хвастал, что дрался за "государя цесаревича". Позже оказалось, что он попросту был сильно помят толпой, бегущей с Сенатской площади. Регистратора отпустили, но уволили со службы, то ли за пьянство, то ли так, на всякий случай.
Всего в столице набралось 265 арестованных лиц, к моменту же организации Верховного уголовного суда (1 июня 1826 г.) под арестом содержалось 178 человек. Первые допросы задержанных проводил сам Николай I вместе с членами суда К. Ф. Толем или В. В. Левашовым. После этого декабристы отправлялись в Петропавловскую крепость с однотипными записками к ее коменданту А. Я. Сукину: "посадить по усмотрению под строжайший арест", "содержать строжайше, дав писать, что хочет", "заковать и содержать строжайше" и т. п. Когда казематы Петропавловки оказались переполнены, солдат и матросов, участвовавших в восстании, стали отправлять в Выборг и Кексгольм. При всех экстренных мерах, предпринятых правительством, сразу были арестованы далеко не все активные участники движения.
Как это было? Отступление пятое
Думается, что у многих декабристов после разгрома на Сенатской площади и неудачного выступления Черниговского полка на Украине первым движением души было желание бежать за границу. H.A. Бестужев, например, надеялся укрыться на Толбухинском маяке под Кронштадтом, чтобы, переждав время массовых арестов, найти прибежище в какой-нибудь скандинавской стране. Однако, взломанный сильным ветром, лед закрыл дорогу на маяк, а вскоре Бестужев был узнан солдатами, которые и передали его полиции. Собирался бежать за границу и младший брат Николая Бестужева Михаил, но, случайно увидев на улице арестованного К. П. Торсона, сам явился во дворец, чтобы разделить участь друга.
Удалось покинуть Петербург одному из активнейших участников восстания в столице В. К. Кюхельбекеру. Он добрался до имения своей сестры, где переоделся в "мужицкое" платье и приобрел паспорт на имя плотника Ивана Подмастерникова. Лишь отсутствие достаточной суммы денег помешало ему при помощи контрабандистов переправиться в Пруссию. Тем не менее, добравшись до Варшавы, Кюхельбекер попытался отыскать своего лицейского товарища С. С. Есакова, чтобы на время спрятаться у него, а затем перейти границу Российской империи. Однако Есаков, будучи в отпуске, оказался в отъезде, а неосторожные расспросы о нем привели к аресту незадачливого беглеца.
В середине февраля 1826 г. был после долгих поисков схвачен участник восстания Черниговского полка И. И. Сухинов. До этого же, переодевшись в "партикулярное" (гражданское) платье и изготовив себе фальшивый паспорт, он благополучно добрался до Кишинева, где провел в мучительных раздумьях одиннадцать дней. Несколько раз Сухинов подходил к реке Прут, которая была слабо охранявшейся границей России с Румынией, но в конце концов решил сдаться властям, почти потерявшим надежду задержать беглеца.
Надо отметить, что еще несколько декабристов имели реальные шансы скрыться за границу, но без колебаний отказались сделать это. А. М. Горчаков, служивший в Министерстве иностранных дел, привез своему лицейскому товарищу И. И. Пущину заграничный паспорт, куда надо было лишь вписать соответствующую фамилию. Однако тот, несмотря на все просьбы и доводы Горчакова, не согласился на побег. Н. В. Басаргин, исполнявший обязанности старшего адъютанта начальника штаба 2-й армии П. Д. Киселева, мог спокойно покинуть родину, но отказался от этой возможности. Наконец, М. С. Лунин – адъютант великого князя Константина Павловича – уже после получения известия о его причастности к делу декабристов добился у своего начальника разрешения съездить на медвежью охоту на силезскую границу. Конечно же, Лунин имел возможность уйти в Германию, но также не поддался соблазну.
Думается, декабристов, имевших возможность бежать за границу, останавливали два соображения. Во-первых, чувство товарищества, желание разделить судьбу своих единомышленников. Во-вторых, они считали должным не бежать от ответственности за свои поступки, а попытаться оправдать их, донеся до верховной власти правду о положении дел в стране. Для них не столько важно и честно (воистину от слова "честь") было спрятаться от карающей руки монарха, сколько объяснить ему причины восстания, предложить свое видение будущего развития страны. "Диалог" на Сенатской площади, вылившийся в вооруженное противостояние, не удался. Теперь дворянские революционеры надеялись перенести его на заседания Следственного комитета и в покои Зимнего дворца.
Вообще-то, следствие в Петербурге фактически началось в ночь с 14 на 15 декабря, еще до создания Следственной комиссии (преобразованной затем в Следственный комитет), когда в резиденцию императора стали свозить задержанных участников восстания. За первые семнадцать часов непрерывных допросов было выслушано тринадцать человек, которых спрашивали прежде всего о "соучастниках злоумышленного общества". Обстановка в стране оставалась напряженной: совершенно неясной была ситуация во 2-й армии на Украине, в Кавказском корпусе и в Москве. Нити заговора, казалось, вели к М. М. Сперанскому, Н. С. Мордвинову и другим высокопоставленным чиновникам империи. Торопясь очертить круг виновных и искоренить крамолу, Николай I уже вечером 14 декабря составил список членов Следственной комиссии. В нее вошли: военный министр А. И. Татищев, новый петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов, великий князь Михаил Павлович, А. X. Бенкендорф и А. Ф. Орлов. Последнего вскоре пришлось из списка вычеркнуть, так как его брат М. Ф. Орлов оказался замешан в заговоре. Вместо Алексея Федоровича в Комитет попали А. Н. Голицын, В. В. Левашов, А. Н. Потапов, А. И. Чернышев и И. И. Дибич (сплошь генералы, за исключением Голицына).