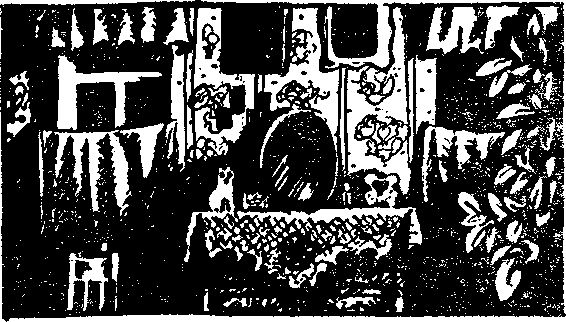III
Ольга вошла в дом и на кухне затопала смерзшимися сапогами, обивая снег, подышала на окоченевшие руки. Не открывая двери в комнату (услышала, что к ним притопала Светка и звала маму, - не простудить бы ребенка!), сказала громко, чтобы услышал жилец:
- Настоящая зима. Это же надо - так рано. Как на го́ре...
- Кому на горе? - спросил Олесь и позвал малышку: - Светик, иди сюда, а то Дед Мороз отморозит пальчик.
Но девочка барабанила кулачками в двери и требовала:
- Дай, дай! - что означало: "Дай маму!"
Ольга притихла, застыла с поднятыми руками, развязывая платок, прислушалась. Ей показалось, что голос парня послышался не оттуда, где надлежало быть больному, - не из спальни ее родителей с их широкой, деревянной, занимавшей половину тесной комнатки, кровати, а где-то ближе, сразу за дверью, в "зале", где топала Светка.
Ольга сбросила холодное пальто, осторожно приоткрыла двери в "зал" и от удивления не подхватила, как обычно, Светку на руки. Олесь стоял перед зеркалом большого, красного дерева, шкафа и брился.
Его военную гимнастерку, рваную, грязную, она обдала кипятком, чтобы убить вшей, выстирала, выутюжила, пока он лежал без сознания, и без его разрешения продала на толкучке, рассудив, что военное ему теперь не нужно, более того - ходить в нем по городу опасно, выбросить же жалко, у нее ничего не пропадало зря. Когда больной пошел на поправку, Ольга дала ему одежду мужа, но при ней Саша еще ни разу не одевался.
А сейчас он стоял перед зеркалом в желтых башмаках, в черных мужниных брюках, в белой сорочке, которая была так велика ему, что казалось, там, под сорочкой, нет тела, один воздух. Да и вообще весь он точно светился белизной - сорочкой, смертельно бледным лицом, белыми волосами. Не сразу она сообразила, что такой неземной вид у него не только оттого, что исхудал, совсем высох, бедненький, но и от света, падавшего из окон через тюлевые гардины. Ночью выпал снег, и сильно подморозило. Неожиданная зима в начале ноября. Снег покрыл землю, осеннюю черноту ее. Ольге с самого утра казалось, что снег прикрыл всю грязь, весь ужас, какой сотворили на земле люди. Оттого и был ангельский вид у жертвы этого ужаса.
Олесь смущенно и виновато улыбнулся ей:
- Прости, я взял бритву без разрешения... твоего. - Он говорил ей уже "ты", но каждый раз как бы конфузился при этом.
Ольга сразу взволновалась, встревожилась:
- Зачем ты встал? Нельзя же тебе еще. Такой слабенький, - мог бы потерять сознание, упасть... с бритвой... А. тут ребенок...
- Да нет, ничего, как видишь, стою. Вначале голова кружилась.
- Не лежится тебе...
- Праздник же сегодня, Ольга Михайловна.
- Какой праздник?
- Как какой? - удивился и как-то странно опешил и растерялся парень. - Великого Октября... - Ему даже представить было трудно., что кто-то из советских людей мог забыть об этом празднике, где бы ни встречал его - на фронте, в оккупации, в лагере пленных, Его страшно потрясло, когда Ольга равнодушно протянула: "А-а..." - и занялась малышкой, подхватила на руки, вытерла ей носик подолом юбочки.
Не заметила Ольга, каким он сразу стал, опустив руку с бритвой, бледный, внезапно обессиленный - кровь ударила в голову, зашумела в ушах. Но у него хватило силы положить бритву на стол, рядом с блюдцем, где помазком вспенивал малюсенький кусочек мыла. Прозрачно-бледные, впалые щеки загорелись болезненным огнем - не пунцовым, фиолетовым каким-то.
- Нельзя так, Ольга, нельзя!
А она уже и забыла, о чем речь, и не поняла сразу:
- Что нельзя?
Олесь шагнул к ней, резко поднял руку, но только мягко и ласково дотронулся до ребенка.
- Нельзя забывать о том, что для нас самое дорогое. О празднике нашем самом великом и... обо всем, за что воевали наши отцы... Нельзя! За это отдали жизнь лучшие люди рабочего класса... Ленин... Что у нас тогда останется? За что будем воевать с фашизмом? С чем пойдем в бой?.. Что останется ей, если мы обо всем этом забудем? - протянул он руку к девочке, а той показалось, что он зовет ее к себе, и она потянулась к нему от матери...
Ольга застыла, ошеломленная. Она слышала подобное, но никто и никогда не говорил так, как он, этот больной юноша, так горячо, так страстно. Чаще слова такие говорили с трибун, по радио, а он говорил их ей одной, и его даже лихорадило, далее загорелся весь, и голос дрожал от слез. Услышала она в его словах и другое: он бросал ей упрек - за жизнь ее такую, за торговлю. Упрек звучал во много раз повторенном: "Нельзя так". Что нельзя? А что можно? На минуту Ольга разозлилась: вот он как отблагодарил за то, что она сделала для него! Ах ты козявка! Хотелось ударить словами: "Пошел ты, недоносок! Почему же тебя твои лучшие люди не спасали? Почему они драпанули, народ в беде оставили?"
Но он продолжал говорить все так же горячо. Нет, он не упрекал ее, он просил, молил понять, что так нельзя, нельзя склонять голову и ждать, когда тебе на шею наденут ярмо, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, так сказала Долорес Ибаррури. Ольга вспомнила, она слышала эти слова, когда еще училась в школе, когда фашисты напали на испанский народ... Хотя их часто повторяли, тогда они не трогали ее, а сейчас, услышанные из уст человека, который едва выкарабкался, едва спасся от смерти, как-то непривычно, по-новому взволновали. Безусловно, фашисты - звери, жить под их гнетом все время она тоже не согласна. Чтобы Светку ее, когда вырастет, повезли на чужбину невольницей, надели хомут... О нет! Но пусть их разобьет наша армия, без армии никто ничего не сделает, думала она.
Слова Олесевы взволновали еще и потому, что горячность его сменилась полным изнеможением, и он пошатнулся, наверное, упал бы, если бы она не подхватила.
С ребенком в одной руке, обняв его другой, повела в боковушку.
- Ох, горечко мое! Говорила же, что не надо было подниматься. Видишь, снова жар. Сколько там того тела, нечему и гореть.
Олесь послушно прилег на кровать и посмотрел на нее уже другими глазами, виноватыми, попросил:
- Простите, - снова на "вы".
Ольга привыкла к его извинениям, но, пожалуй, ни одно не смутило ее так, как это.
Не зная, что ответить, спросила шутя:
- Побриться-то успел?
Олесь утомленно прикрыл веки.
- А я думала, что ты и не бреешься еще. Потому и не предлагала бритвы. Казалось, ничего же не растет. Так, рыженький пушок. А побрился - и правда похорошел. Хоть жени тебя.
Но глаза у него потухли. Не до шуток ему было. Ольга каждый раз пугалась, когда после возбуждения, лихорадочного блеска глаза у него вот так угасали, как у неживого.
Ольга разула его, он не сопротивлялся.
- Штаны помочь снять?
- Нет, нет... что вы! Я сам.
Ольга помнила, как страшно он сконфузился, когда очнулся и понял, что столько дней она ухаживала за ним, как ухаживает санитарка в больнице за тяжелобольным. Такая юношеская стеснительность умиляла Ольгу, она снисходительно разрешила, как маленькому :
- Ну хорошо, полежи так. Отдохни. Я накрою тебя одеялом. Не так тепло у нас, чтобы лежать в одной сорочке после такого воспаления... Я тебе Адасев свитер дам, раз ты уже поднимаешься.
То обстоятельство, что парень этот сразу же так серьезно заболел (безусловно, он был и раньше болен, только держался в лагере из последних сил: ведь там свалиться - смерть), в чем-то помогло и Ольге, и ему, как говорится, не было бы добра, да беда помогла. Такой больной паренек (под одеялом - совершенный подросток), четыре дня не приходивший в сознание, незаметно и как-то естественно прижился у нее. Полицай, заглянувший в тот день за "калымом" - за стаканом самогонки, возможно, увидел у постели больного смерть, дежурившую там неотлучно, потому и удовлетворился коротким объяснением: "Родственник приехал из деревни и заболел. Боюсь, как бы не тиф". Услышав о тифе, Друтька не задержался в доме.
Соседи, правда, втайне шептались, что Леновичиха подобрала красноармейца, уже умиравшего и потому выброшенного немцами из лагеря - бери, кто хочешь (люди еще верили хотя бы в какие-то проблески человечности у фашистов), - и теперь выхаживает смертельно больного человека, как собственное дитя.
Одни не сразу поверили, другие удивлялись, третьи похвалили, сказав, что давно замечали: душевные качества у Ольги не в мать - в отца пошла, а старый кожевник Ленович прожил свою жизнь честно, коммерцией и плутнями не занимался и всегда старался помочь людям. Во всяком случае, Ольгин поступок был оценен высоко, он в каком-то смысле реабилитировал ее в глазах тех, кто тихонько бросал ей вслед, когда она шла, нагруженная узлами, на рынок: "Торговка! Немецкая шлюха!"
Впрочем, приведи она в дом здорового мужчину, еще неизвестно, что могли сказать и подумать, скорее всего вряд ли поверили бы в спасение пленного из патриотических побуждений. А тут поверили - ведь тетка Мариля рассказывала, в каком состоянии парень и как Ольга лечит его.
Действительно получалось так, что Олесева болезнь помогала ей, потому, наверное, и рождалась особая привязанность к нему, своеобразная благодарность. Все так хорошо складывалось, будто он приносил счастье. Друтьке она сказала про родственника просто так - от неожиданности, просто со страху, побоялась признаться, что взяла человека из лагеря. Рассказала об этом Лене, а та через два дня принесла справочку на имя Александра Леновича, уроженца Случчины, будто он лежал в больнице с какой-то непонятной болезнью, написанной по-латыни. Теперь Ольге необходимо было объявить, что это и впрямь ее родственник, что лечился он в гражданской больнице, но с наступлением морозов там стало так холодно, что парень в довершение к своей болезни схватил крупозное воспаление легких. Такой диагноз поставил доктор, которого Лена приводила, - воспаление и сильная дистрофия.
Друтька спросил на рынке:
- Как твой родственник? Выздоровел?
- Не выздоровел, но, славу богу, не тиф, воспаление.
Полицаи, целых трое, в тот же день приплелись за угощением. Посмотрели на Олеся, который уже очнулся, но от слабости едва мог слово выговорить, подбодрили:
- Ничего, будешь жив. Поправляйся. В полицию возьмем. Люди нам нужны.
Ольга на радостях угостила их щедро. Подвыпили, но к ней не лезли, стыдно все же им, паразитам, при больном человеке нахальничать, тетки Марили не стыдились, а больного постыдились. И это тоже понравилось Ольге к добавило еще крупинку чего-то доброго к больному - благодарности, симпатии.
Удивили его горячность в разговоре о празднике и обида, что она забыла о таком дне, самом великом, самом дорогом для него. Удивили и взволновали.
Впрочем, удивляет он не впервые. Несколько дней назад, когда немного оправился, во всяком случае глаза стали живыми, не с того света смотрели на нее, Ольга спросила у него мимоходом, как спрашивают у всех больных, когда замечают, что они поправляются:
- Может, тебе еще что-нибудь надо? Говори, не стесняйся, Саша.
Больной на минуту задумался.
- Книги. Есть у тебя книги?
- Книги?
Она очень удивилась. Сразу не поверила даже, чтобы у человека, который едва выкарабкался с того света, первой потребностью стали книги,
Книг у Ольги не было, одно Евангелие материнское осталось, но эту книгу она предложить не посмела, чувствовала - обидится парень, комсомолец же, конечно. Были в доме школьные учебники, журналы советские, она сожгла их в печке, подальше от греха, а то еще, чего доброго, прицепятся немцы, прятать их не стала, хватает более ценных вещей, которые пришлось закапывать темными ночами в огороде и делать для них тайники в погребах. Не до книг было, что для нее книги!
Олесь ничего не сказал, но, по глазам увидела, удивился, что в доме нет ни одной книги. Ольгу даже немного обидело это, подумаешь, счастье - книги!
- Какие тебе книги нужны? - спросила она.
- Хорошо было бы поэзию. Классику. Пушкина. Лермонтова. За классику не бойся.
Ольга сказала об этом Лене. И снова ее задело за живое, что Лена нисколько не удивилась, будто знала наперед, что может понадобиться такому парню.
Через день или два Лена принесла книгу - толстый томик в самодельной, из желтого картона, обложке, на ней химическим карандашом было написано: "Александр Блок".
Ольга не слышала раньше о таком писателе.
- Немец, что ли? - спросила она у Лены.
- Да нет, наш, русский. Но символист, - ответила Боровская.
Ольга вспомнила, что, кажется, в восьмом классе учитель литературы, сам поэт, что-то рассказывал им про каких-то символистов, но прошло так много времени, случилось так много событий в жизни, что она все забыла, для нее это пустой звук - символисты, реалисты.
Олесь спал, когда Лена приходила. Ольга потом, вечером, с некоторой даже торжественностью, как подарок имениннику, поднесла ему книгу.
Обложка, возможно, его немного смутила. Но развернул книгу - и будто встретился с давним своим другом, засиял весь.
- Блок! Боже мой! Блок! Дореволюционное издание... Спасибо вам!
Ольге была приятна его радость, и она не призналась, что книгу принесла Лена Боровская, пусть думает, что сама она выбрала как раз го, что ему нравится, что и она в чем-то разбирается.
А потом он удивил ее еще больше. Когда сильно уже подморозило, прибежала она с рынка, окоченев от холода, чтобы накормить дочку и больного. Марилю теперь не приглашала, чтобы лишнее не платить; хотя Олесь и лежал еще, но уже мог оставаться вместо няньки, играл с малышкой, которая сама влезала к нему на кровать, и у него хватало сил переодеть ее в сухие штанишки.
В тот день Ольга продавала свеклу. Остатки, которые не успела продать, поручила соседке - была у торговок, как в каждом цехе, своя солидарность и взаимовыручка. Но все равно приходилось спешить: на рынке остались корзины, мешки, их нужно забрать, ноябрьский день короткий, скоро полиция начнет всех разгонять, а соседка по рынку живет на другой улице, далеко.
Олесь ел сам, сидя в кровати, под спину ему Ольга подсунула подушку, чтобы легче было сидеть.
Ольга второпях накормила дочь и подсвинка, которого прятала в хлеву, за штабелями наколотых дров, и за которого очень боялась: если и немцы не ограбят (из-за кабанчика она улещивала и немцев, и полицаев), то свои могут украсть, голодных в городе тьма.
Заглянула в родительскую спальню, чтобы забрать тарелку, и увидела: забыв о еде, Олесь читал. Упрекнула:
- А ты уже читаешь?
Он посмотрел на нее влажными глазами и вдруг попросил:
- Посиди со мной минутку. Я почитаю тебе стихи. Послушай, какая это красота.
- Не до стихов мне, - отмахнулась она.
- Нельзя же жить... - Ольга догадалась, что он хотел сказать, но не сказал, поправился: - Нельзя же весь день на ногах. Я не представляю, когда ты отдыхаешь. Даже ешь стоя.
Такая неожиданная просьба, и забота о ней, и то, что он впервые заговорил с ней просто, как всегда обращался к Лене, сразу тревожно и радостно взволновали Ольгу. Она послушно села на кровать у его ног, по-крестьянски положила огрубевшие от работы, красные от холода руки на колени.
Сначала он читал стихи о любви, не по порядку, выбирал их из разных мест книги.
Для кого же ты была невинна
И горда?
Ольгу стихи сначала не тронули, она подумала с грубоватым озорством: "Ишь ты, на ладан дышит, а о любви думает". Но потом случилось что-то невероятное. Стихи, как домашнее тепло или хорошее вино, понемногу размягчали ее застывшую душу, вдруг вспомнилось детство, потом все близкие, родные, никогда они так не вспоминались ей - все сразу: и родители покойные, и Адась, и Павел - фронтовики (живы ли они?), и Казимир, который пошел работать к немцам и страшно ругался за пленного, говорил, что, когда немцы возьмут ее за жабры, пусть не надеется на его помощь, но она ответила, что никогда и не рассчитывала на старшего брата, не ждала, что он чем-то поможет... Сделалось грустно. От воспоминаний или от стихов? Такого она, пожалуй, еще не переживала: быстро, как во сне, одни чувства сменялись другими, все вдруг будто перемешалось, забурлило, точно в котле, на поверхность всплывало то одно, то другое - то легкая печаль, то тревога, то непонятная радость, то острая боль, то страх...
Почти ужас охватил, когда Олесь шепотом прочитал:
Плачет ребенок. Под лунным серпом
Тащится по полю путник горбатый.
В роще хохочет над круглым горбом
Кто-то косматый, кривой и рогатый.
Представилось косматое страшилище, с появлением которого наступит конец света. Хотя книга и старая с виду, но очень может быть, что человек этот, поэт, был пророком и смотрел далеко вперед. Может, он сегодняшнее страшилище видел, когда плачет ребенок и ветер молчит, но близко труба, да ее не видно в темноте. Ой, не видно! Пусть бы затрубила быстрее!..