1
Была середина декабря, когда взорам Радищева открылись крепостные стены, купола и колокольни церквей стольного города Сибири, освещённые лучами предзакатного солнца. Неразговорчивый офицер, всю дорогу молчавший, предчувствуя долгожданный отдых, обрадованно воскликнул:
- Тобольск!
Офицер сопровождал от Перми. Слово, произнесённое с нескрываемым восторгом, обрадовало Радищева. Мелькнуло: прорвалось в служаке что-то человеческое. Рыжебородый офицер стал насвистывать весёлый мотивчик. Александр Николаевич с сочувствием подумал о жизни человека, заброшенного в эти холодные края. Ему захотелось сказать офицеру что-нибудь тёплое, узнать, откуда он родом и как идёт его служба. Он спросил его об этом. Тот помедлил с ответом, а потом произнёс:
- По артикулу не положено говорить с ссыльным…
Радищев не утерпел, рассмеялся. Ограниченность офицера была смешна. Подмывало бросить колкое, обидное слово, которое бы обожгло казённо-надменного человека. Но он сдержался: не стоило бросать слов на ветер. Александр Николаевич стал всматриваться в открывающуюся панораму города и через минуту забыл об офицере.
От уставших коней валил пар. Ямщик натянул вожжи, щёлкнул бичом. Коренник и пристяжная рванули. Вскоре они вынесли экипаж на взлобье. Начинался спуск к реке.
Тобольск был как на ладони. Город, частью выстроенный на Алафеевской горе, а частью по низкому правобережью Иртыша, раскинулся вдоль реки. В нагорной части находились кремль и каменные казённые сооружения. На край мыса выходила приказная палата и двумя этажами маленьких окон наблюдала за городом, расположенным в подгорной части. От берега Иртыша взбиралась на Алафеевскую гору толстая стена кремля, построенного лет семьдесят пять назад шведами, взятыми в плен под Полтавой. К кремлю примыкал гостиный двор, скорее напоминающий крепость, с четырьмя островерхими, похожими на боярские шапки, угловыми башнями. Издали Тобольск был красив и величественен.
Медленно поднимаясь по Никольскому взвозу, взмыленные лошади выбрались к воротам, ведущим к центру кремля. Отсюда открывался чудесный вид на окрестности города. Красивой дугой, начиная от Чувашского мыса, Тобольск огибал могучий Иртыш, скованный льдом. За рекой лежала огромная равнина, окаймлённая возвышенностью, сливающейся с багровой полоской вечернего неба.
Над городом, прижатым Иртышом к Панину бугру и Алафеевской горе, главенствовали позолоченные церковные кресты и купола. Среди них заметно выделялась шатровая колокольня Богородской церкви, построенная свыше ста лет назад неизвестными русскими зодчими.
Тобольск расположился на удобном и бойком месте. Через него проходили караванные пути из Сибири в Россию, из Европы в Китай и сказочную Бухарию. Здесь был перекрёсток великих дорог, культурных и торговых связей. Город по праву назывался сибирской столицей.
Но, несмотря на красивое расположение города, Тобольск представлял нерадостное зрелище; всюду были видны следы недавнего бедствия. Обуглившиеся брёвна заборов, одинокие ворота, закопчённые печи с трубами среди пустыря, особенно в подгорной части, навевали уныние и тоску. Раны пожара уже затягивались. В центре города вновь поднимались каменные купецкие дома, виднелись незаконченные постройки.
Радищев ещё в дороге слышал разговоры о несчастье, постигшем город. На другой день после пожара к Тобольску потянулись подводы с печёным хлебом из окрестных деревень и сёл. Целую неделю погорельцев безденежно кормили добродетельные селяне. Александр Николаевич узнавал в этом чуткую и заботливую душу своего народа. Таков его народ всегда: сам несчастный, а в бедствии протянет руку другому и окажет помощь. Это замечательное качество создавалось веками. И Радищев подумал, что нет среди европейских народов добрее и мягкосердечнее русских к своему брату.
Возок проехал засугробленную плацпарадную площадь и остановился у трёхэтажного дома купца Шевырина, где после пожара размещалось губернское правление. Офицер проворно взбежал на крыльцо и исчез за дверью. Из караульной будки высунулся, как лохматый пёс, солдат в тулупе, оглядел подъехавших и опять скрылся. Через несколько минут офицер появился и, не сходя с крыльца, крикнул ямщику:
- Приказано доставить в гостиницу!..
Экипажи развернулись и вскоре исчезли в боковой улице. У гостиницы приехавших встретил пожилой солдат.
- Сюда, - он махнул рукой и, когда Радищев выбрался из экипажа, приветствовал:
- Здравия желаем!
Александр Николаевич, тронутый тёплой встречей, ответил на приветствие служивого и спросил, как его зовут.
- Кличут Семён, по отцу Гордеев.
- Семён Гордеевич, - Радищев полуобернулся к экипажу и хотел попросить, чтобы солдат помог перенести вещи, но тот опередил его, взял в руки два саквояжа и сказал уже на ходу:
- Жильё уготовано.
- Спасибо, спасибо, - с благодарностью произнёс Радищев, не зная, чем объяснить столь приветливое гостеприимство тобольского начальства. Радушный приём невольно настораживал: не было ли в нём чего-то преднамеренного и коварного? Можно всего ожидать. Так разительна была перемена в отношениях к нему офицера и солдата, что Александр Николаевич усомнился в искренности неожиданной для него хорошей встречи.
- Его происходительство изволили побеспокоиться, - с тем же простодушием сказал солдат, направляясь к крыльцу. Плечи его, залитые лучами угасающего солнца, широченная спина были как у богатыря, хотя росту солдат казался среднего. Радищев на мгновение залюбовался им, но тут же спохватившись, подошёл ко второму экипажу, где суетились с узлами Степан с Настасьей. Хотелось поделиться с ними первыми впечатлениями.
- Радость улыбается нам.
Степан воспринял это по-своему.
- Надобен роздых, Александр Николаич, кости болят без привычки.
Настасья в знак согласия покивала головой, укутанной тёплыми платками и шалью.
- Будет, будет! - оживлённо проговорил Радищев и вдруг поверил своим словам. Отдохнуть и ему было необходимо, дорога изрядно утомила его.
Радищев разместился в одной из двух комнат, простенько меблированных, с окнами, выходящими в сторону Иртыша, а в другой расположились Степан и Настасья.
Незаметно спустился вечер. Синие сумерки вползли в комнату. Александр Николаевич подошёл к окну. Из-за тёмной полоски горизонта выкатывался оранжевый шар луны. Думы о своей жизни не покидали Радищева. Тревога за детей и Елизавету Васильевну щемила сердце. Где-то в глубине теплилась надежда на освобождение, несбыточная, но волнующая больше всего его душу.
В комнату тихо вошёл Степан с зажжённой свечой и остановился возле дверей. Радищев стоял к нему спиной против окна, упираясь руками о косяки. Он быстро повернулся и молча, видимо всё ещё занятый своими мыслями, посмотрел на слугу.
- У Настасьи самоварчик готов, чайку не желаете?
Степан подошёл к столу и вставил горящую свечу в медный подсвечник.
Радищев припомнил его слова, переспросил:
- Так надобен роздых, говоришь?
- Знамо.
Александр Николаевич подсел к столу и заглянул Степану в глаза.
- Может в душе каешься, что поехал? Скажи, отправлю обратно. На полпути мы, дальше труднее будет.
Добродушные глаза Степана часто замигали.
- Напраслину не возводите на меня, Александр Николаич. Никто нас с Настасьей не неволил, сами пожелали.
На душе Радищева отлегло.
- Не обижайся, Степан, не тебя, себя пытаю… А сейчас стаканчик чайку…
В дверях стояла Настасья с самоваром в руках, влажные глаза её блестели.
- Совсем по-домашнему! - воскликнул Радищев, увидев Настасью. - Что это значит?
Степан поспешил ответить:
- Настасья свой самоварчик достала. С ним будто в родном Аблязове, на душе веселее.
- Очень хорошо! - проговорил Радищев и оживлённо добавил:
- Скорее к столу. Чашки, чашки сюда!
Чай пили втроём. За дорогу Степан и Настасья привыкли есть вместе с Александром Николаевичем. Впервые за всё время они говорили о простых, обыденных вещах, ощутив тёплый домашний уют.
- Скоро и рождество христово, - сказала Настасья. - Святки. В Аблязове-то молодые на Тютнаре по льду катаются, а вечерами - гадают…
Александр Николаевич вслушивался в её слова и, улавливая тоскливые нотки в голосе, думал, какая грусть лежит сейчас на душе этой женщины, решившейся вместе с добрым Степаном ехать в такую даль.
- Скучно тебе будет, Настасьюшка, в чужих краях.
- Что вы, Александр Николаич! Какая тут скука! В заботах, да в хлопотах времечко пролетит незаметно. Бог милостив, глядишь, и дойдут до него молитвы, пораньше освободят вас.
- Молишься за меня? - спросил Радищев.
- Молюсь, - призналась Настасья.
- А нужно ли за меня молиться?..
Настасья пристально посмотрела на Радищева, словно желая убедиться, шутит он или говорит серьёзно.
- Как же не молиться-то, - сказала она опять, - Сибирь гробом жизни почитают…
- Подумай, что язык-то говорит, - прервал её Степан.
- Что на уме, то и на языке, - прямо молвила Настасья.
- И в Сибири хорошие люди живут…
- Верно, Александр Николаич! Верно! - поддакнул Степан. - Сбрехнула баба, не подумавши…
- И вольный человек живёт здесь в своё удовольствие. Природа дикая, но прекрасная.
Они смолкли.
- Давайте, погорячее налью. - Настасья протянула руку за чашкой Радищева и опять заговорила о своём.
- Любила я богослужение в Аблязове, особенно, когда на хорах поют… Ещё девчонкой забегала я с крытого хода в церковь, когда там никого не было, садилась в раззолоченную ложу вашего батюшки Николая Афанасьевича и матушки Фёклы Степановны, закрывала глаза, и чудилось мне - улетала я далеко, далеко. Хорошо так на душе было, беззаботно…
Настасья вздохнула. Александру Николаевичу тоже вспомнилось детство, дядька Сума, нянюшка Прасковья Клементьевна. Она водила их, детей, в старую церковь, построенную ещё прадедом Аблязовым, тем же крытым ходом, через галерею, всегда темноватую, холодную, пахнущую сыростью, что соединяла дом с церковью. Он отдал бы сейчас многое, чтобы снова повторилась невозвратная пора его безмятежного детства.
- Растревожила ты меня, Настасьюшка, - сказал Александр Николаевич.
- Я и сама-то сердечко растравила, - ответила она.
Радищев встал и снова подошёл к окну. Луна была уже в зените. Зеленоватыми искрами переливался лёд на Иртыше. Широким простором и покоем веяло от этого зимнего ночного пейзажа. Александр Николаевич долго стоял у окна и не слышал, как Настасья убрала со стола посуду, накрыла постель.
Когда он оглянулся, Настасьи и Степана в комнате не было. Радищев прилёг на кровать и вскоре заснул спокойным и крепким сном.
2
Утром Радищев явился в присутствие. Был ещё ранний час, а в губернском правлении чиновники сидели за столами и скрипели гусиными перьями. Он подивился их усердию. Радищев не знал, что губернатор Алябьев любил строжайшую дисциплину, следовал сам золотому правилу: "Подчинённые зрят на начальника" и являлся в присутствие первым.
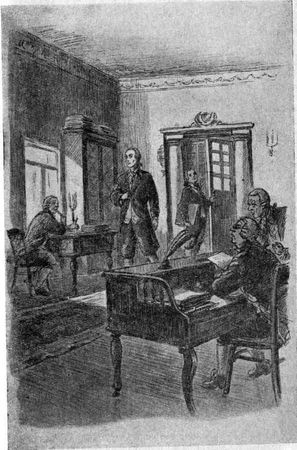
Утром Радищев явился в присутствие.
"Смотреть приятно, но столь ли велика польза государству?" - невольно подумал Радищев, проходя к приёмной правителя тобольского наместничества. Чиновники проводили его любопытными глазами, зная уже, что этот человек, важный столичный чиновник, окутан тайной свершённого им преступления против начальства и власти царской. Слухи о Радищеве, как ни секретно следовал он в ссылку, опередили его. В Тобольске знали о его приезде.
Чувствуя на себе любопытствующие взоры, Радищев шёл нарочито медленной походкой, стараясь растянуть время, чтобы улеглось волнение, вызванное предстоящей встречей с губернатором.
В 1782 году в Тобольске по столичному образцу был выстроен трёхэтажный наместнический дворец с тронным залом. Посредине его возвышался трон Екатерины II. В торжественные дни наместники, стоя на нижней ступени его, принимали представителей тобольских горожан. Два года тому назад наместнический дворец наполовину сгорел. Теперь губернское правление ютилось в неприспособленном купеческом доме. Канцелярские столы и высокие шкафы с бумагами казались неуклюжими под низкими, лепными потолками недавних шеверинских аппартаментов.
В приёмном зале, украшенном портретами императрицы, наследника и его жены, с окнами, полузадёрнутыми портьерами из голубого бархата, расшитыми золотыми вензелями, стояла совершенная тишина. Неслышно ступая по персидским коврам, Радищев прошёл в глубину зала.
В дневном свете, смягчённом голубыми портьерами, на мягком диване у стены сидел средних лет посетитель. Он был в офицерском мундире без знаков различия и положенных ему регалий. На коленях у него лежала толстая папка.
Как только Радищев заметил его, тот быстро привстал и поклонился.
- К его высокопревосходительству?
Александр Николаевич кивнул головой. Посетитель сел, отодвинулся, давая рядом с собой место Радищеву. В приёмной губернатора кроме них никого не было.
- Из Санкт-Петербурга? - вполголоса спросил человек в офицерском мундире. Радищев заметил: он был моложе, чем показался ему сразу, и приятен лицом. Не дождавшись ответа от Радищева, занятого своими мыслями, тот свободно продолжал:
- Сокола по полёту определяют.
Приветливо улыбнулся, сверкнул глазами и, не мешкая, представился:
- Бывший гвардии корнет, ныне туринский мещанин Панкратий Сумароков.
Радищева нисколько не обидело его бесцеремонное обращение, наоборот, непринуждённая простота этого человека располагала. За несколько наигранным тоном туринского мещанина он угадывал нечто другое, скрываемое от людей. В тон Сумарокову он ответил:
- Бывший секунд-майор, Александр Радищев.
- Значит, в нашем полку прибыло, - полушутливо заключил туринский мещанин. Он хотел спросить ещё что-то у собеседника, но Радищев предупредил его:
- Не родственник ли пииту, Александру Петровичу Сумарокову?
- Дальний! - чёрные усики Сумарокова шевельнулись. - Притчи сочиняю и с музой дружу не по наследственности.
- Похвально!
Они оба улыбнулись.
- Я к Александру Васильевичу, - поведя глазами на дверь губернаторского кабинета деловито заговорил Сумароков, - с прожектом очередного номера ежемесячника…
Он окинул Радищева доверчивым взглядом, словно подчёркивая этим, что, посвящая его так скоро во внутренние дела, он оказывает ему своё расположение.
- Живём его отеческим вниманием и заботами.
Панкратий Сумароков рассказал, как год назад в Тобольске, купцом первой гильдии Василием Корнильевым, был приобретён печатный станок, заведена бумажная фабрика и открыта типография. Великое событие в наместничестве ознаменовалось по желанию просвещённого губернатора Алябьева изданием ежемесячника в Сибири. Его назвали красиво, но не всем понятно: "Иртыш, превращающийся в Ипокрену". Это было единственное периодическое провинциальное издание в России. Гордость, с какой говорил о журнале Сумароков, была вполне уместна.
- Наш "Иртыш" возродил "Уединённый пошехонец", - сказал он, сверкнув глазами.
- Кто кого? - уловив игру слов и улыбаясь, переспросил Радищев.
- "Пошехонец" издавался два года, "Иртышу" суждено расцветать и долговечно жить, - пояснил Сумароков.
Он передохнул. Радищев прекрасно понимал его приподнято-возбуждённое состояние. Оно было знакомо и близко ему. Не с таким ли душевным трепетом он приступал к своему предприятию, заводя собственную типографию и начиная печатать книги?
Александр Николаевич невольно проникся уважением к своему собеседнику. Панкратий Сумароков внутренне горел. Огонёк его согрел и душу Радищева. Он понял, что литература была лучшей отрадой в жизни Сумарокова.
А тот продолжал:
- Больших трудов стоит "Иртыш", - в голосе его послышались нотки грусти и сомнений. - Окупятся ли наши деяния сторицей, оценят ли наше предприятие потомки?
Раскрылись дубовые двери губернаторского кабинета. Оттуда вышел рослый, представительный чиновник. В петлице его новенького фрака поблёскивал владимирский крестик. Актёрским жестом он выхватил из кармана батистовый платок и несколько раз коснулся им вспотевшего лба. Быстрой походкой чиновник прошёл мимо привставшего с поклоном Сумарокова и удостоил его строгим кивком головы. Он был явно не в духе и чем-то раздражён.
- Важный сановник, - шепнул Сумароков, - начальник приказа общественного призрения. - Он пригласил Радищева: - Пройдёмте, - и первым вошёл к Алябьеву в кабинет.
- Ваше превосходительство, гость из Петербурга…
- А-а! - протянул Алябьев. Он был, видимо, рассеян и недоволен разговором с чиновником, который только что покинул его кабинет.
Губернатор откинулся в резном кресле, прищурил глаза.
- Осведомлён о вашей судьбе, - сказал он после продолжительной паузы.
Александр Николаевич молча наблюдал за губернатором, сидевшим в тени. Он не уловил выражения его лица, хотя по тому, как губернатор говорил, оно должно было быть добродушным.
Немолодой годами, тучноватый, но отлично сохранивший военную выправку, Алябьев был человеком особого склада. Серьёзный и строгий в присутствии, он в обществе был добряком, любил поговорить на отвлечённые темы и пофилософствовать с собеседниками. Говорили, будто он на балконе своего дома выставил двухаршинный деревянный бюст Минервы - богини мудрости, покровительницы просвещения. Алябьев увлекался театром, проявлял попечение о литературе, живописи, музыке и, действительно, покровительствовал развивающемуся в его наместничестве искусству. Он не скрывал этого, наоборот, старался показать себя меценатом.
- Премного нашумели своей книгой, - проговорил он, обращаясь к Радищеву, - книга интерес воспламенила, а прочесть не удалось…
Александр Николаевич, не догадываясь ещё, к чему, клонится разговор, насторожился, обдумывая, что сказать Алябьеву, избежав подробностей о себе. Но губернатор сам переменил разговор. Сумароков опустился в кресло. За ним присел и Радищев.
- Изволили служить коллежским советником в коммерц-коллегии у графа Воронцова?
- В последний год назначен был управляющим таможней, - уточнил Радищев.
Но, видимо, губернатора занимала другая мысль. Он никак не отозвался на слова Радищева.
- Влиятельный при дворе вельможа, большого ума и души человек! - сказал он после паузы.
Лестный отзыв об Александре Романовиче расположил Радищева к Алябьеву. Недавняя насторожённость стала отступать. Несмотря на огромную разницу теперешних положений, они почувствовали расположение друг к другу.
Радищев не знал, что многое из того, о чём говорил губернатор, было подсказано ему письмами Воронцова. Великодушие Алябьева, его благорасположение к горькой судьбе сочинителя смелой книги объяснялось также и тем, что губернатор, не читавший "Путешествия", видел в Радищеве потомственного дворянина, заблуждающегося в своих взглядах.
Алябьев вдруг прервал разговор с Радищевым.