* * *
Нянька из подмосковной Шаховских прибыла вовремя: ей одной удавалось справиться с приступами отчаяния, которые преследовали старую княгиню.
Порой в ночной тишине можно было различить глухие, но все-таки явственные звуки: то протяжные стоны, то, особенно пугавшее обитателей заснувшего дома, что-то похожее на сдавленный вой существа, которое не может жить с терзающей его раной.
Однажды дверь в спальню Варвары Александровны отворилась, и на пороге появилась Никитична в белой рубахе и с тонкой седой косицей на плече.
– Что ж ты такое творишь? – подняв свечу над ничком лежавшей на кровати хозяйкой, грозно шептала нянька. – Что творишь-то, мать моя? Почто воешь? Не нас, холопьев твоих убогих, а внучку бы свою пожалела.
Варвара Александровна повернула распухшее лицо от подушки:
– Что? Что внучка?
– А то, что бедное дите не спит! Хоть и не слышит, как ты убиваешься, а не спит – беспокоится, вроде как ей нехорошо, а не знает отчего. Она махонькая, а все чует... Я уж и травкой ее поила, и баюкала, а у нее губы дрожат. Матерь Божия, Пресвятая Богородица, спаси и помилуй. – Никитична истово перекрестилась на икону. – Пожалей хоть ты горемычную сироту Варварушку, коли родной бабушке все равно! Вот, глядите на нее: ей и дела нет, что бедное дитя мается.
От этих разговоров, повторявшихся не раз, княгиня обычно затихала. Никитична тяжело садилась на ее постель, гладила по спине, по плечам и не уходила до тех пор, пока Варвара Александровна глухо, но уже спокойно говорила:
– Иди, няня, к себе. Я не буду больше, иди...
6. Шувалов
Весной 1803 года Варвара Александровна решила перебраться в Москву. Отчего, почему – сама не знала, но это желание не давало ей покоя. Постепенно, как водится, и причины нашлись для такого шага. В Первопрестольной у Шаховских было большое хозяйство: и дома, и богадельни, которые основала еще мать княгини. Деньги Варвара Александровна исправно посылала, но своим глазом за долгие-то годы взглянуть не мешало.
Резон к переезду виделся и в том, что московский климат, не в пример петербургскому, здоровее. Об этом следовало думать, имея маленького ребенка на руках. Понятно, что летом подмосковная усадьба Шаховских – сущий рай. Варваре Александровне представлялась темноволосая головенка Вареньки, мелькающая среди душистых трав и цветов. Что еще надо?
...О Монкальме, где с момента страшного происшествия она не бывала, Варвара Александровна старалась не вспоминать. И управляющие всякий раз ломали голову, когда надо было испросить указаний княгини насчет этого разнесчастного имения.
Однако княгиня не спешила расстаться с ним, сдавала на летние месяцы внаем дачникам: желающих отдохнуть на финском побережье было много. Лишь на излете своих дней, в 1822 году, Шаховская продала Монкальм. О его дальнейшей судьбе стоит сказать несколько слов, поскольку он имел своего преемника, благополучно дожившего до наших дней.
Прежние владения Шаховской приглянулись императору Николаю I. Тот как раз искал землю для строительства летних резиденций для сыновей. В конце концов, каждый получил свое: Константин – одноименный дворец, Николай – Знаменку, а Михаил – бывший Монкальм – Михайловку, отстроенную в 1831 году.
Это название сохранилось до сих пор. Так именовалась детская колония, затем база отдыха с пансионатом. Огромные потери Михайловка понесла во время войны с фашистами. Лишь в 2003 году это место было объявлено памятником истории, а сейчас здесь расположилась Высшая школа менеджмента.
Тому, кому посчастливится побродить по аллеям "Михайловской дачи", будет что вспомнить: как здесь учился, как катался на лыжах или в Нижнем парке слушал шум прибоя. Но хочется верить, что найдутся и те, кто под сенью трехсотлетних дубов припомнит давнюю историю о княгине Елизавете – историю, до сих пор не позволившую разгадать себя.
* * *
Итак, Шаховская готовилась к отъезду. В доме было шумно и суетливо. К хозяйке то и дело приходили за распоряжениями. И потому, когда на пороге "Лизиной комнаты" в очередной раз появился камердинер, Варвара Александровна, сидевшая в кресле, укоризненно сказала:
– В доме прорва народа. Вы хоть что-нибудь можете сами решить, меня не беспокоить?
– Простите, ваше сиятельство. Тут вот какое дело: гость явился, вроде бы как незваный. Военный! Представительный такой! Доложи, говорит, княгине.
– Ты же знаешь, что нынче день у меня неприемный.
– Говорил, матушка, говорил. А он, мол, нужно видеть их сиятельство, да и только.
– Да кто таков – спрашивал?
– Как же-с! Только он: скажи барыне – старый -престарый знакомый. А сам-то как есть молодой. Видать, удалец! Мундир-то, мундир...
Княгиня вздохнула:
– Будет тебе: "мундир, мундир". Проводи в большую гостиную.
...Варвара Александровна тихо вошла в комнату, остановилась на пороге и стала внимательно вглядываться в посетителя. И он, до того смотревший в окно, как будто почувствовал ее взгляд, обернулся и с улыбкой шагнул к ней.
Княгиня всплеснула руками:
– Павлуша! Павел Андреевич!
Шувалов склонился к ее руке, а она чуть отступила назад, оглядела гостя, его ордена, блестевшие на сукне мундира, и, показывая на них, воскликнула:
– О господи! Когда же? Ах да что там: наш пострел везде поспел!
– Я от государя, дорогая Варвара Александровна, – точно оправдываясь за свой щегольской вид, сказал Шувалов. – Решил вас повидать: не забыли ли меня? Завтра уезжаю. Насколько – Бог весть...
– В Глухов? – поинтересовалась княгиня, указывая гостю на кресло. – Матушка ваша, помнится, говорила, что вы там полком командуете.
– Командовал, вернее. – Шувалов, качнув головой, вздохнул. – Теперь вот иное. В Европу государь посылает.
Они стали беседовать. Взволнованная и обрадованная этим визитом, Варвара Александровна хотела лишь одного – чтобы гость обошел стороной тяжелую для нее тему.
Шувалов, словно поняв это, не задавал никаких вопросов, удовлетворяясь тем, что княгиня рассказывала сама и что желала знать о нем.
Только под конец, поняв, что у Шувалова перед отъездом немало дел и надо завершать разговор, Варвара Александровна упомянула о внучке:
– Жаль, Павел Андреевич, не застали вы мою мадемуазель. Кузина со своей детворой заезжала, взяла Вареньку ледоход на Неве смотреть. Восьмой годок ласточке моей пошел. Тиха и робка – не в бабушку. Я ведь тоже уезжаю. В Москву. Нет мне покоя. – И вдруг, словно на что-то решившись, она поднялась: – Пойдемте же, мой друг.
Княгиня под руку повела гостя по узкому коридору и у самого его конца толкнула белую крашеную дверь. Обе створки разошлись. Шувалов увидел перед собой портрет молодой незнакомой ему женщины. Но чем больше вглядывался, тем память настойчивее подсказывала ему, кто именно изображен на портрете. Он уже не сомневался. Почувствовав сквозь сукно мундира, как мелко дрожат пальцы княгини, унизанные перстнями, Шувалов опустил на них свою большую теплую ладонь.
* * *
В Москве житье заладилось.
Шаховская очень скоро ощутила на себе благотворное влияние этого города – спокойного, умиротворенного. Здесь все оставалось на своих местах, как ей помнилось смолоду. Будто зачарованная, ходила она по громадному отцовскому дому, останавливалась у тяжелых рам с потемневшими полотнами, брала в руки вещи, памятные еще с давних пор, и с суеверной радостью чувствовала, что та острая боль, которая доводила ее до крика, стала как будто ослабевать.
Да, здесь, как говорится, даже стены лечили: Москва была не просто другим местом, а родиной. Спасительная память воскрешала в душе Варвары Александровны образы далекой юности: отчий дом, что белел на одном из семи холмов Первопрестольной, над самой Москвой-рекой, дедовы и родительские могилы возле их строгановского храма в Котельниках, сады везде и всюду. Это был тот позабытый мир, что без обид и досады ждал ее эти долгие годы.
Единственное, чего хотелось княгине, о чем сейчас страстно она мечтала, – это остаться одной в полусумрачном отцовском храме и, чувствуя коленями холод чугунных плит, рассказывать, захлебываясь слезами, про себя все-все. Как прельстили ее безмятежность, удобство и разного рода приятности чужого края, как овладела ею тщеславная мысль о дочкином возвышении и о страшном грехе Лизы, в котором, как ни крути, повинна и она. Во всем этом, неприятном и горьком, теперь надо было открыться Тому, кто и без ее причитаний знает все: Он – забытый ею.
...Только раз за годы жизни на чужбине, которая так ей нравилась, что-то вроде укоризны остро, до испуга, коснулось ее сердца.
Это случилось, когда они с Лизой путешествовали по Фландрии. Гуляя в песчаных дюнах, набрели на одиноко стоявший большой деревянный крест с образом Спасителя в центре. Преклонили колени, прочитали "Отче наш". Подняв глаза и приглядевшись, Варвара Александровна заметила на кресте выдолбленные почерневшие, но не вытравленные временем слова:
Я – Свет, а вы не видите Меня.
Я – Путь, а вы не следуете за Мной.
Я – Истина, а вы не верите Мне.
Я – Жизнь, а вы не ищите Меня.
Я – Учитель, а вы не слушаете Меня.
Я – Господь, а вы не повинуетесь Мне.
Я – ваш Бог, а вы не молитесь Мне.
Я – ваш лучший друг, а вы не любите Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.
Помнится, она все оглядывалась и оттого спотыкалась, когда они с Лизой уходили. А ведь ей хотелось вернуться, что-то сказать, объяснить, попросить прощения. Но, не желая смущать дочь, она подавила свое желание, и, когда оглянулась в последний раз, креста уже не было видно.
* * *
Портрет Лизы, конечно, взяли с собой и разместили в небольшой комнате, уютной и теплой, где на подоконнике взяла манеру греться под апрельским солнцем рыжая с белым кошка – настолько безмятежно спокойная, что даже на скрип двери не поднимала голову и лишь чуть-чуть приоткрывала глаза.
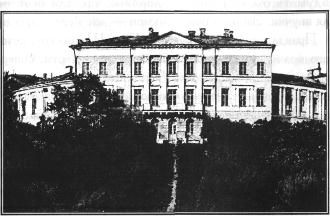
Когда-то огромный строгановский дом на одном из московских холмов был виден едва ли не от Кремля. Нынче он спрятан "высоткой" на Котельнической набережной. Однако, обойдя ее со стороны Москвы-реки, можно по тропинке добраться до стен, которые две с лишним сотни лет безмолвно наблюдают течение московской жизни с ее бедами, радостями и где взяла начало история, рассказанная в этой главе. Правда, более эффектно это когда-то одно из самых больших зданий Первопрестольной смотрится со стороны Гончарной улицы. В доме, построенном Строгановыми и сменившем немало хозяев, сейчас размещается крупный банк, для которого старая ограда из толстых кованых прутьев с железными наконечниками, понятно, дело не лишнее. Ограда эта старинная, подлинная, а потому достойна внимания.
Московская неспешная жизнь навела княгиню на мысль подумать о собственном здоровье. Не для себя – для внучки. Заболей она или умри – что будет?
Правда, отец девочки, князь Петр Шаховской, которого врачи приговорили к неминуемой смерти, совершенно оправился от чахотки. Через некоторое время после гибели Елизаветы Борисовны он сочетался новым браком. (В будущем же он стал отцом четверых детей, почти на полстолетия пережив первую жену.)
Так что вся ответственность за внучку лежала на бабушке. Вот почему в своих молитвах Варвара Александровна просила Господа о здравии. А ведь сама была ленива на этот счет! Но через великую неохоту взялась: и к травникам ездила, и питалась с осторожностью – лишнего куска, как злого врага, боялась.
В Москве тогда повальным увлечением была метода доктора-немца Лодера. Карл Иванович, как его здесь называли, проповедовал, по крайней мере полчаса в день, ходить весьма быстрым, без расслабления шагом. Вроде бы проще некуда. Но большинство знакомых Шаховской, с азартом начав, быстро охладели. Предлогов как всегда нашлось много.
Варвара же Александровна, хоть некогда недвижная нога и давала о себе знать, была настойчива и даже в плохую погоду отправлялась на прогулку: карета рядом, а она, знай, идет себе версту за верстой. Возвращалась уставшая до полусмерти, но зато тяжелых мыслей в голове как не бывало, и засыпала тут же, без всяких капель.
А утром – за дела. До сих пор все хозяйство на ней лежит. Это только кажется, что добро само по себе прибывает. Нет! Все сибирские начальники да старосты знают, что ее не объегоришь. Поворовывают, конечно, по малости, но страх перед нею все же имеют.
...Когда княгине приносили газеты и она прочитывала их, ей казалось, что все тревожные вести, доходившие сюда из Европы, никакого отношения ни к Первопрестольной, ни к ней не имеют. И только беседы с графом Ростопчиным, с которым она успела сдружиться, омрачали ее настроение. Тот доказывал, что с Францией Россия обязательно схлестнется.
– Полноте, Федор Васильевич, они после своей революции не скоро опамятствуют.
Да, действительно, помосты с гильотинами там вроде бы убрали. Какая жуткая гримаса истории: вожди, отправившие под смертоносное лезвие десятки тысяч людей, кончили свою жизнь так же. Не избежал этой участи даже такой оригинал, как герцог Орлеанский, – его обезглавленное тело "оказалось в яме, куда сбрасывают навоз".
Столица Франции, вволю набушевавшись, похоже, обнаружила тягу к покою. Население в подавляющем большинстве вернулось к домашним заботам. А с теми, кто готов был продолжать смуту, в два счета расправился молодой офицер-артиллерист, на практике применив все то, чему его учили в военной школе. Пушки, выставленные им на улице Сент-Оноре, били прямой наводкой по церкви, где эти несчастные пытались укрыться.
"Неправда, что мы стреляли холостыми зарядами, – поправлял газетчиков решительный офицер. – Это было бы напрасной тратой времени".
"Да, это неправда, – имея в виду гору трупов, выросшую на широких ступенях церкви, подтверждал впоследствии историк Томас Карлейль. – Пальба производилась самыми разрушительными снарядами, для всех было ясно, что это не шутка". Церковь, настоящий шедевр архитектуры с мраморными фигурами святых внутри, была изрядно покалечена. Но до того ли тогда было? "Явился нужный человек. Вот он пришел к вам, и событие, которое мы называем "Французская революция", развеяно им в прах и стало делом прошлого!"
"Finita la comedia", – как говорили на родине "нужного человека".
Прошло не так уж много времени с момента пальбы у церкви Сен-Рок, как ее устроитель возвысился неслыханно, невообразимо и беспримерно. Не зря же толкуют о "звездных часах" истории. Время от времени они выпадают если уж не на долю всей нации, то хотя бы достаются отдельным ее представителям.
Итак, тот, не желавший терять времени впустую стрелок, в 1804 году стал императором. Не королем, заметьте, а именно императором – на манер лучших представителей Древнего Рима.
...Пачкая пальцы типографской краской, Варвара Александровна следила за карьерой, поневоле наводившей на мысль о вмешательстве мистических сил. Имя нынешнего повелителя Франции она уже знала – Наполеон Бонапарт!
Разумеется, как всякую женщину, Шаховскую интересовала внешность этого необыкновенного человека. Она внимательно рассматривала не слишком-то четкие в типографском тиснении его портреты. Рассматривала – и всякий раз ловила себя на смутном беспокойстве. Это лицо казалось ей знакомым. Но где она могла видеть его?
* * *
Как-то вечером, обсуждая с Ростопчиным очередные новости из Франции, Шаховская услышала:
– Да, у этой легкомысленной нации теперь новый хозяин. Кажется, весьма строгий. Подумать только! – Чуть помолчав, граф добавил: – Стоило ли отправлять на тот свет два миллиона людей только для того, чтобы короновать какого-то капитана-артиллериста.
В этот момент словно пелена упала с глаз Шаховской. Капитан. Капитан-артиллерист! Да-да! Конечно же – вот он сидит за угловым столиком, куда не достает свет, льющийся сквозь окна кафе "Корацца". Щупловатая фигура с узкими плечами, худое, словно терзаемое нездоровьем лицо, взгляд исподлобья.
Так вот кто это был!