– Прости меня, – шепчет бабушка еле слышно.
Ее слова пронеслись по мне грозовыми тучами и изменили весь горизонт. Я оглядываюсь на всех ее заключенных в рамы зеленых дам (на одной кухне их аж три). Женщины, застрявшие между здесь и там, и все они – Пейдж, все они – Пейдж в пенистом зеленом платье, теперь я точно это знаю. Я думаю о том, как бабушка сделала все возможное, чтобы мама не умерла в наших сердцах, чтобы мы не винили Пейдж Уокер за то, что она нас оставила. О том, как бабуля, неведомо для нас, взяла всю вину на себя.
Я вспомнила ужасные мысли, которые пришли мне в голову тогда, на ступенях, когда я подслушала ее извинения перед Полумамой. Я ведь тоже винила ее. Винила за то, что неподвластно даже всемогущей бабуле.
– Это не твоя вина, – говорю я с уверенностью в голосе, которой никогда у себя не слышала. – Ты ни в чем не виновата. Это она уехала. Она не вернулась. Это ее выбор, что бы ты ей ни сказала.
Бабушка вздыхает так, словно удерживала дыхание целых шестнадцать лет.
– Ох, Ленни, – плачет она. – Я думаю, ты только что открыла форточку вот тут. – Она показывает себе на грудь. – И выпустила ее.
Я встаю и подхожу к ней, впервые понимая, что она потеряла двух дочерей. Не знаю, откуда она берет силы вынести это. И понимаю кое-что еще: я не разделяю этого двойного горя. У меня-то есть мама: вот, я стою рядом с ней, вижу, как отпечатались на ее коже тяжелые годы, чувствую ее дыхание с ароматом чая. Интересно, а может, поиски Бейли тоже привели бы ее сюда, назад к бабуле? Надеюсь, что так. Я нежно кладу руку ей на плечо, удивляясь, как такая огромная любовь может поместиться в моем тщедушном теле.
– Нам с Бейли повезло, что у нас есть ты, – говорю я. – Мы вытянули счастливый билет.
Она закрывает глаза и через секунду уже сжимает меня в таких крепких объятиях, что у меня трещат кости.
– Нет, это у меня счастливый билет, – бормочет она мне в волосы. – А теперь довольно уже всего этого. Давай наконец выпьем наш чай.
Я иду обратно к столу. Мне внезапно становится ясно: жизнь – это полный бардак. Надо сказать Саре, что пора открывать новое философское направление – бардакизм вместо экзистенциализма (для тех, кто наслаждается бардаком, который царит в жизни). Потому что бабуля права: нет единой правды, а есть целый набор разных историй, которые все происходят одновременно. У нас в головах, у нас в сердцах, и все они сталкиваются и перемешиваются. Прекрасный, громкозвучный бардак. Как в тот день, когда мистер Джеймс повел нас в лес и, приветствуя головокружительную какофонию инструментов, играющих каждый свою мелодию, воскликнул в ликовании: "Вот оно! Вот оно!"
Я смотрю на груду слов, которые были раньше моей любимой книгой. Мне хочется сложить историю заново, чтобы Кэти и Хитклифф смогли принять другие решения, перестали стоять на пути собственного счастья и, последовав за своими яростными, пылающими сердцами, оказались в объятиях друг друга. Но я не могу. Я иду к раковине, достаю мусорное ведро и сметаю в него Кэти, Хитклиффа и всю их несчастную родню.
Тем же вечером я сижу на крыльце, играя мелодию Джо, и пытаюсь вспомнить книги, где любовь побеждает. Есть Лиззи Беннет и мистер Дарси. Джейн Эйр в конце выходит замуж за мистера Рочестера, что неплохо, но у него была эта безумная жена, от которой мне как-то не по себе. Есть Флорентино Ариса из "Любви во время холеры", но он дожидался Фермину целых пятьдесят лет, чтобы потом вместе уплыть на корабле в неизвестность. М-да уж… Выбрать почти не из чего, и я приунываю; почему же истинная любовь так часто терпит поражение в литературе? И, что гораздо важнее, как сделать так, чтобы она одержала верх для нас с Джо? Если бы я только могла обратить его в бардакизм… Если бы у меня были на заднице колеса, я бы стала трамваем. После всего, что он наговорил сегодня, мое превращение в трамвай кажется мне вероятнее нашего примирения.
Я играю его песню раз, наверное, в пятидесятый, когда осознаю, что бабушка стоит в дверях и слушает. Я думала, что она заперлась в мастерской, отходит от эмоциональных потрясений сегодняшнего дня. Я останавливаюсь, не доиграв ноту. Мне внезапно становится неловко. Она открывает дверь и вышагивает на крыльцо с ящиком красного дерева в руках:
– Какая очаровательная мелодия. Уверена, что теперь я и сама смогу ее сыграть. – Она закатывает глаза, ставит ящик на стол и падает на диван. – Хотя я рада, что ты опять играешь.
Я решаю рассказать ей:
– Собираюсь попробоваться на первый кларнет в этом году.
– Ох, Горошинка! – поет она. В буквальном смысле поет. – Мне медведь на ухо наступил, но слова эти – все равно музыка для моего уха.
Я улыбаюсь, но внутри у меня все переворачивается. На следующей репетиции я собираюсь сказать об этом Рейчел. Было бы гораздо проще, если бы я могла облить ее ведром воды, как Бастинду.
– Присядь со мной. – Бабуля хлопает ладонью по подушке рядом с собой.
Я присоединяюсь к ней и кладу кларнет на колени.
Она опускает руку на ящик:
– Это все твое. Читай. Открывай все конверты. Изучай записки и письма. Только знай, что там есть не только слова любви. Особенно в ранних посланиях.
Я киваю:
– Спасибо тебе.
– Ну ладно. – Она убирает руку с крышки. – Пойду прогуляюсь в город, навещу Бига в салуне. Мне нужно выпить чего-нибудь покрепче.
Она ерошит мне волосы и оставляет нас с ящиком наедине.
Я откладываю кларнет в сторону, ставлю коробку на колени и рисую пальцем круги поверх кольца с лошадями. Еще и еще. Мне и хочется открыть ящик, и не хочется. Возможно, это мой единственный шанс узнать маму поближе, кем бы она там ни была. Искательница приключений или сумасшедшая, героиня или злодейка, а может, просто запутавшаяся, сложная натура. Я смотрю на дубы по ту сторону дороги. Мох свисает с их ветвей оборванными шалями, и они стоят, как кучка серых заскорузлых мудрецов, обдумывающих вердикт…
Скрипит дверь. Я оборачиваюсь и вижу бабушку. Она нацепила ярко-розовое… нечто. Кофту? Мантию? Шторку для душа? Поверх еще более яркого сиреневого платья в цветочек. Волосы ее распущены; их дикие волны словно заряжены электричеством. Она накрасила губы баклажанного цвета помадой. На громадных ногах – ковбойские сапоги. Она выглядит прекрасно и безумно. Впервые со смерти Бейли она идет куда-то на ночь глядя. Бабушка машет мне, подмигивает и спускается по ступенькам. Я вижу, как она удаляется через сад. Выходя на дорогу, она оборачивается, придерживая волосы рукой, чтобы их не сдуло ветром.
– Слушай! Я считаю, что Биг продержится месяц. А ты?
– Шутишь? Две недели максимум.
– Твоя очередь быть шафером.
– Хорошо, – улыбаюсь я.
Она улыбается в ответ, и все ее царственное лицо лучится юмором. Сколько бы мы ни притворялись, но все равно для Уокеров нет ничего веселее, чем мысль об очередном браке дяди Бига.
– Будь умницей, Горошинка. Если что, ты знаешь, где нас искать.
– Все будет хорошо, – отвечаю я, ощущая на ногах тяжесть коробки.
Как только она уходит, я поднимаю крышку. Я готова. Вот они, все эти письма и записки, скопившиеся за шестнадцать лет. Я думаю о том, как бабуля быстро записывала рецепт, или мысль, или вообще какую-нибудь ерунду, которой хотела поделиться с дочерью или которую хотела запомнить сама. Может, клала в карман и держала там весь день, а потом, перед сном, кралась на чердак и опускала записку в ящик, в этот почтовый ящик, откуда никто не забирал письма, год за годом, не зная даже, прочтет ли дочь ее послания, не зная, прочтет ли хоть кто-нибудь…
Я тихо охаю, потому что ведь это абсолютно то же, что делала и я: писала стихи и разбрасывала по ветру в той же надежде, что кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь сможет понять, кто я такая, кем была моя сестра и что с нами случилось.
Я достаю конверты, пересчитываю их: пятнадцать. На всех стоит имя Пейдж, а рядом – год. Я нахожу первое письмо, которое бабуля написала дочери шестнадцать лет назад. Вскрывая конверт, я представляю себе, что рядом со мной сидит Бейли. Ну что ж, говорю я ей, давай познакомимся с мамой.
Ну что ж, говорю я сегодня всему миру. Как истинный бардакист, я говорю "ну что ж".
Глава 34
Ферма семьи Шоу возвышается над Кловером. Огромная территория перекатывается волнами золотистой зелени с самого холма до границ города. Я вхожу в железные ворота и направляюсь к конюшням. Тоби там: разговаривает с прекрасной черной кобылкой, снимая с нее седло.
– Не хотела тебя отвлекать, – говорю я и подхожу к нему.
Он оборачивается:
– Ленни! Ого!
Мы улыбаемся друг другу как полоумные. Я думала, что странно будет встретиться с ним теперь, но похоже, что мы оба в восторге. Я смущаюсь и начинаю гладить теплую влажную шерстку лошади. От ее крупа поднимается пар.
Тоби слегка хлопает меня поводьями по запястью:
– Я скучал по тебе.
– И я по тебе.
Я с облегчением замечаю, что внутренности у меня не сжимаются, даже сейчас, когда мы пристально смотрим друг другу в глаза. Ни единого спазма. Что, заклятие спало? Лошадь фыркает. Отличный комментарий, Черная красавица.
– Хочешь покататься? – спрашивает он. – Можем поехать на холм, я только оттуда. Видел целое стадо лосей.
– Слушай, Тоби… Честно говоря, я хотела сходить с тобой к Бейли.
– Хорошо, – отвечает он, не задумываясь, словно я предложила купить мороженого. Странно.
Я обещала себе, что больше не пойду на кладбище. Никто не говорит о разлагающейся плоти, червях и скелетах, но разве можно об этом всем не думать? Я делала все, что в моих силах, чтобы не задумываться о таких вещах. Разумеется, держаться подальше от кладбища было в моих интересах. Но прошлой ночью я, как обычно, перебирала вещи в шкафу Бейли и вдруг поняла: ей бы не хотелось, чтобы я всю оставшуюся жизнь цеплялась за волосы на ее расческе или за груды грязного белья, которые я отказываюсь стирать. Наверное, она бы подумала, что это ничем не лучше свадебного платья леди Хэвишем. Я представила, как она сидит на холме Кловерского кладбища, окруженная, словно свитой, старыми дубами, елями и соснами. И я подумала, что время пришло.
До кладбища можно дойти пешком, но, когда Тоби заканчивает работу, мы садимся в его грузовик. Он вставляет ключ зажигания, но не поворачивает его. Смотрит в лобовое стекло на золотистые луга, настукивая пальцами по рулю. Видно, что он собирается что-то сказать. Я прижимаюсь лбом к боковому стеклу и смотрю в поля. Как, должно быть, одиноко живется ему здесь! Через минуту я слышу его низкий убаюкивающий голос:
– Всегда жалел, что у меня нет брата или сестры. Завидовал вам. Вы были так близки. – Он крепче сжимает руль и смотрит перед собой. – Не мог дождаться, когда женюсь на Бейли, когда у нас появится этот ребенок… Хотел стать частью вашей семьи. Прозвучит абсурдно, но я думал, что помогу тебе справиться с этим. Собирался. Я знал, что Бейли бы порадовалась… – Он трясет головой. – И конечно, облажался. Я просто… не знаю. Ты понимала меня… Единственная из всех. И я чувствовал, что ты так близка мне, слишком близка. У меня в голове все смешалось.
– Но ты правда помог, – перебиваю я. – Ты был единственным, кто вообще смог до меня достучаться. И я тоже чувствовала эту близость, хоть и не понимала ее. Не знаю, что бы я делала без тебя.
Он поворачивается ко мне:
– Правда?
– Правда, Тоби.
Он улыбается своей самой доброй улыбкой и щурится:
– Ну что ж, теперь я вполне уверен, что смогу не лапать тебя. Если ты снова не напялишь то платье, разумеется. – Он вскидывает брови, выразительно смотрит на меня и смеется легким, беззаботным смехом. – Может, мы сможем иногда проводить время вместе… А то, если я продолжу отказывать бабуле, когда она приглашает меня на ужин, скоро она вышлет за мной наряд полиции.
– Ты что, только что дважды пошутил?
– Ну, я все-таки не совсем безнадежный чурбан, знаешь ли.
– Наверное, нет. Ведь должна же быть какая-то причина, по которой моя сестра хотела провести с тобой всю жизнь!
И вот так запросто все встает на свои места.
– Ну что, взбодримся поездкой на кладбище?
– Три шутки. Поверить не могу!
Впрочем, Тоби наверняка исчерпал годовой запас шуток. Дальше мы едем в тишине. Нервно звенящей тишине. Во всяком случае, для меня она звенит: я ужасно переживаю. Сама не знаю почему. Не знаю, чего я так боюсь. Пытаюсь убедить себя, что это всего лишь клочок земли с роскошными статными деревьями и видом на водопады. Всего лишь место, где тело моей прекрасной сестры лежит в ящике и разлагается в своем черном сексуальном платье и сандалиях. Ох! Нет, я просто не могу. Все, о чем я не позволяла себе думать, наводняет мой мозг. Легкие, в которых не осталось воздуха. Помада на ее неподвижных губах. Серебряный браслет – подарок Тоби – на запястье, где не нащупаешь пульс. Пирсинг в пупке. Волосы и ногти, растущие во тьме. Ее тело, в котором больше нет мыслей. Больше нет времени. Больше нет жизни. Нависающие над ней полтора метра земли. Я вспоминаю о том, как на кухне зазвонил телефон, о том, с каким глухим стуком бабушка упала на пол, о том, каким нечеловеческим голосом она завопила – и крик этот проник в нашу комнату.
Я смотрю на Тоби. Он, судя по виду, совсем не волнуется. Меня осеняет:
– Ты уже приходил туда?
– Конечно. Почти каждый день.
– Правда?
Теперь и до него доходит; он поворачивается ко мне:
– А ты что, нет?
– Нет. – Я смотрю в окно. Я ужасная сестра. Хорошие сестры приходят на кладбище несмотря на любые мрачные мысли.
– Бабуля приходит, – говорит он. – Она посадила там несколько розовых кустов и кое-какие цветы. В администрации ей сказали, что все это надо убрать, но каждый раз, когда они выкорчевывали ее растения, она сажала еще больше. И они сдались.
Поверить не могу, что все ходят на могилу Бейли. Все, кроме меня. И от этого я чувствую себя брошенной.
– А Биг?
– Я часто нахожу там окурки от его косяков. Мы пару раз посидели у ее могилы вместе.
Он изучает мое лицо целую вечность.
– Не волнуйся, Ленни. Будет проще, чем ты думаешь. Я в первый раз тоже ужасно боялся.
Мне приходит в голову одна мысль.
– Тоби, – нерешительно говорю я, собираясь с духом. – Ты, наверное, привык быть единственным ребенком… – Голос у меня слегка дрожит. – Но для меня это в новинку. – Я выглядываю в окно. – Может, мы…
Я слишком смутилась и не могу закончить фразу, но он знает, что я хотела сказать. Заезжая на крошечную парковку, Тоби произносит:
– Всегда мечтал о сестре.
– Отлично.
Я чувствую невероятное облегчение. Нагибаюсь через сиденье и чмокаю его в щеку самым несексуальным образом.
– Ну давай, Тоби. Пойдем попросим у нее прощения.
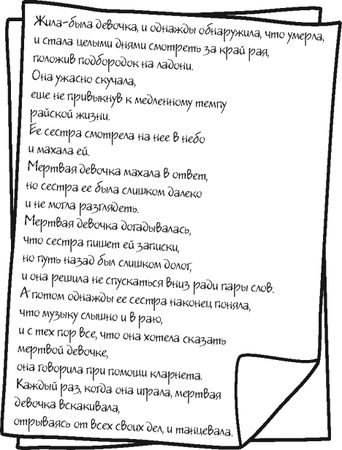
(Написано на листке бумаге, найденном в стопке книг, секция Б, Кловерская общественная библиотека)
Глава 35
У меня есть план. Я напишу Джо стихотворение. Но сначала – главное.
Я захожу в музыкальную комнату. Рейчел уже там. Распаковывает свой кларнет. Ну вот, время пришло. У меня так вспотели ладони, что я боюсь выронить футляр. Я пересекаю комнату и встаю рядом с Рейчел.
– О, да это же Джон Леннон, – говорит она, не поднимая головы.
Ну и нахальство: тыкать мне в лицо прозвищем, которое дал мне Джо! Ну, тем лучше. От ярости я становлюсь спокойнее.
– Я буду пробоваться на первого кларнетиста, – заявляю я, и мой мозг аплодирует мне стоя.
Никогда еще собственные слова не приносили мне такой радости. Даже если Рейчел их и не расслышала. Она все еще занята сборкой инструмента, будто звонок не звенел, будто не было знака начинать.
Я уже собираюсь повторить, но она говорит:
– Ленни, успокойся. – Она так произносит мое имя, словно выплевывает его на пол. – Он совсем зациклился на тебе. Кто бы мне объяснил – почему?
Разве может быть минута прекраснее этой?
– Он тут ни при чем, – объясняю я, пытаясь сохранять невозмутимость. И я совершенно не лгу. Но и она тут тоже ни при чем, хотя об этом я умалчиваю. Дело только во мне и моем кларнете.
– Ну да, конечно. Ты увидела нас вместе и решила отомстить.
– Нет. – Меня изумляет решимость в собственном голосе. – Я хочу играть соло, Рейчел.
Она ставит кларнет на подставку и смотрит на меня.
Я продолжаю:
– И я опять буду заниматься с Маргарет. – Это я решила по пути на репетицию. Теперь Рейчел не отрывает от меня шокированного взгляда. – И я собираюсь на государственный конкурс.
А вот это новость и для меня тоже.
Мы таращимся друг на друга. Мне интересно, а вдруг она с самого начала знала, что я тогда нарочно завалила прослушивание. Может, поэтому она так отвратительно вела себя со мной? Думала, запугает меня и я не осмелюсь бросить ей вызов. Может, Рейчел считает, что это единственный способ сохранить за собой место?
Она кусает губы:
– А может, поделим сольные партии пополам? Тогда ты сможешь…
Я качаю головой. Мне ее почти жаль. Почти.
– Давай дождемся сентября, – говорю я. – А там победит сильнейший.
Покидая музыкальную комнату, я не только держу задницу по ветру, я и сама словно несусь на крыльях ветра прочь из школы и домой через лес – писать стихотворение для Джо. Рядом со мной – шаг в шаг, дыхание в дыхание – бежит невыносимое осознание, что у меня есть будущее, а у Бейли нет.
И тут я понимаю.
Бейли будет умирать столько же, сколько я буду жить. Горе живет вечно. Оно не уходит, а становится частью тебя, шаг за шагом, вдох за вдохом. Я никогда не перестану горевать о Бейли, потому что никогда не перестану ее любить.
Так уж устроена жизнь. Любовь и скорбь неразделимы, нельзя испытать одно без другого. Все, что я могу, – это любить ее и любить мир и подражать ей, проживая свою жизнь отважно, радостно и вдохновенно.
Не думая, я сворачиваю на тропу, что ведет к лесной спальне. Вокруг меня лес взрывается от красоты. Солнечный свет льется водопадом сквозь деревья, и усыпанная иголками земля светится, точно драгоценное ожерелье. Кусты рододендрона скользят мимо меня, словно дамы в роскошных платьях. Мне хочется обнять все, что меня окружает.
Дойдя до лесной спальни, я прыгаю на кровать и устраиваюсь поудобнее. На сей раз я не буду спешить со стихотворением, оно не будет похоже на все прочие, что я набрасывала на бегу и расшвыривала вокруг. Я достаю из кармана ручку, вынимаю из сумки пустой нотный лист и начинаю писать.
Я рассказываю ему все. Все, что он значит для меня, все, что я чувствую рядом с ним и не чувствовала никогда раньше, все, что я слышу в его музыке. Я хочу, чтобы он доверял мне, поэтому полностью обнажаю свою душу. Я говорю, что принадлежу ему целиком, что отдала ему свое сердце и дороги назад нет, даже если он никогда меня не простит.
В конце концов, это моя история, и мне решать, как ее рассказывать.