Надо же, как Варюха за год, что я ее почти не видел, повзрослела! И рассуждает, как бывалая женщина. Видно, не ладит с матерью. Это еще ладно, плохо то, что не уважает ее. Сейчас, когда прошло время, я могу сказать, что моя бывшая жена не уродилась умной, тонкой женщиной, но в ней было свое обаяние, женственность. Оля закончила Киевский университет, работала методистом в клубе работников торговли. Познакомился я с ней во время туристской поездки в Чехословакию. Помнится, за ней тогда многие пытались ухаживать, Оля была самой интересной женщиной в туристской группе. Правда, там женщин и было-то всего четыре. Мы переписывались, потом она приехала в Ленинград на смотр художественной самодеятельности, я сделал ей предложение, и мы поженились. Оля тогда без сожаления покинула Киев. И кто знает, если бы не Чеботаренко, возможно, мы и по сей день жили бы вместе. После рождения Вари Оля не работала. У нее стало слишком много свободного времени, а когда женщина не занята, у нее появляется неудовлетворенность, ей кажется, что она живет не так, как надо, всю вину за это, естественно, валит на своего мужа…
Не повторилось бы у нее нечто подобное и в Киеве?..
- Я считаю, что в высшие учебные заведения нужно принимать только некрасивых девушек,- сказала Варя. Она повернула голову набок и из-под полуопущенных ресниц насмешливо смотрела на меня. Не дождавшись моей реплики - я и так знал, куда она клонит,- продолжала: - Некрасивые рассчитывают только на себя: усердно учатся, едут, куда их пошлют, и работают до самой пенсии… А красотки получат диплом и тут же норовят замуж выскочить и остаться в городе. Если даже и распределят куда-нибудь, то все равно быстренько выйдет замуж и бросит работу… Долго ли мама работала? Вышла за тебя и тут же ушла…
- Она родила тебя,- сказал я.
- Что-то тут государство недодумало,- заявила Варя.
- К какой же ты себя категории относишь: к некрасивым или красавицам? - полюбопытствовал я.
- Как говорила одна известная артистка: "Я никогда не была красивой, но всегда была чертовски мила!" - засмеялась Варя.
- По-моему, ты красивая,- заметил я.
- Тебе трудно, па, быть объективным,- напустив на себя серьезность, сказала она.- Я - своеобразная: не красавица и не уродка.
- Боишься слова "средняя"?
- Боюсь,- призналась она.- По-моему, даже зауряднейшая посредственность в глубине души считает себя личностью…
- Чтобы быть личностью, да еще достойнейшей, нужно много над собой работать,- не удержался я от назидательности.
- Легок на помине,- рассмеялась Варя.- К нам трусит самая наидостойнейшая личность!..
Я повернул голову и увидел приближающегося к нам Острякова. В светлых шортах, трикотажной безрукавке, на груди которой написано по-английски "Мир", он бежал трусцой по кромке пляжа. Высокий, подтянутый, с впалым животом, мускулистыми руками, он бежал в одном темпе, ни на кого не обращая внимания, худощавое лицо его было отрешенным, он, наверное, и нас бы не заметил, если бы я не остановил его.
- Выкупаемся? - предложил я.
Анатолий Павлович измерил свой пульс. Он не выглядел усталым, запыхавшимся, широкая грудь его вздымалась ровно.
- Сто тридцать ударов в минуту,- удовлетворенно заметил он.
- Не много? - поинтересовался я.
- Если бы ты столько пробежал, у тебя пульс подскочил бы к ста восьмидесяти,- сказал Остряков.- Все дело в тренировке.
- И охота вам в такую жару бегать? - повернула в его сторону голову Варя.
- Мне не жарко,- ответил Анатолий Павлович. И действительно, он даже не вспотел.
- Анатолий Павлович, чтобы стать личностью, нужно обязательно бегать? - невинно спросила Варя.
- Я тебе отвечу словами историка Ключевского,- спокойно сказал Остряков.- "Быть умным - значит не спрашивать, на что нельзя ответить".
Варя озадаченно замолчала, осмысливая услышанное, однако сбить с толку ее было не так-то просто. Она вступила как раз в тот самый счастливый возраст, когда девушка может позволить себе разговаривать с мужчинами на равных, интуитивно понимая, что ее молодость, привлекательность с избытком искупают наивность, отсутствие опыта жизни, даже сказанную глупость.
- Я слышала об уме и другое: "Не многие умы гибнут от износа, большей частью они ржавеют от неупотребления",- с обезоруживающей улыбкой произнесла она.- Я и папа считаем вас личностью, но ни мне, ни ему бегать не хочется.
- Мне хочется,- сказал я, бросив на Варю уничтожающий взгляд: ну чего прицепилась? - Хочется поскорее убежать от тебя, несносная девчонка!
- Это естественно,- невозмутимо ответила Варя.- Поле брани всегда первыми покидают побежденные!
- Варя, ты - личность! - рассмеялся Анатолий Павлович.- Тебе совсем не обязательно бегать.
- Я буду учиться летать,- провожая взглядом чайку, сказала Варя.- Летают же люди во сне? Почему бы им не полететь и наяву?
- Полетай, а мы выкупаемся,- сказал я.
Мы долго бредем по мелководью, на заливе всегда так: идешь-идешь, а вода чуть выше колен. Чем дальше от берега, тем она прохладнее. Варя осталась на берегу. Все так же лежит на спине и смотрит в небо.
- Давно ли бегала в школу, как мои девчонки, и вот невеста,- сказал Анатолий Павлович.
- Читает Горация, Вергилия, Цицерона,- не удержался и похвастался я.
- Радуйся, что дочь растет умной.
- Я и радуюсь…
- Не могу вспомнить, чью она цитату привела об уме?
- Чего на меня уставился? - усмехнулся я.- Думаешь, я знаю?
- Очень верная мысль: не многие умы гибнут от износа, больше от праздности…- повторил он.
- По-моему, от неупотребления? - неуверенно заметил я.
- А наши с тобой умы не ржавеют, Гоша? - задумчиво сказал Остряков.- У меня дома уйма непрочитанных книг… Все некогда, а жизнь не ждет… И старость не обманешь… даже если бегаешь от нее трусцой!
- Тебе-то грех жаловаться,- заметил я.
- Не надоело одному-то? - помолчав, спросил он.
- Кончилось мое одиночество, Толя! - усмехнулся я.
- Никак женишься?
- Варя школу закончила, будет жить у меня.
- Значит, быть тебе холостяком,- подытожил друг.
- Я не из тех, дружище, кто приносит себя в жертву. Да Варя и не потребует от меня этого. Сам говоришь, умная.
- Удивляюсь я тебе,- сказал он.- Живешь себе один, как рак-отшельник. Я бы не смог так. Лиши меня семьи - и я погиб бы… Не мыслю себя в единственном числе! Это противоестественно.
- Не погиб бы,- проговорил я.- Просто изменились бы твои взгляды на женщин, семью, жизнь…
- Даже в самом безысходном положении человек на что-то надеется,- согласился Анатолий Павлович.- Находит свою собственную философию, если нет под рукой готовой… Что бы с человеком ни случилось, даже самое невероятное,- наверняка нечто подобное уже случалось когда-то давно с другими людьми или обязательно случится в будущем…
- Не надо,- сказал я.- Пусть лучше больше ничего худого не случается…
И эти слова пришлось мне потом не один раз вспомнить… Каждый утверждает, что хотел бы наперед узнать свою судьбу, а подведи человека к порогу, за которым предстанет перед ним судьба, ведь испугается, нипочем не перешагнет!.. Знать свою судьбу - значит, отныне никогда больше не знать надежды и счастья. Ничего у человека не останется, кроме тоскливого ожидания своего конца.
Низко пролетела над головами большая морская чайка. Янтарный холодный глаз равнодушно смотрел на нас. Мощное изогнутое крыло со свистом разрезало воздух.
Остряков, окунувшись с головой, поплыл.
- Вон до той лодки и обратно,- показал он. Анатолий Павлович не уступит первенства. Стоит мне нагнать его, как тут же прибавит темп. Я и не стал соревноваться с ним. Было приятно спокойно плыть в прохладной чистой воде. Голубая лодка с обнаженным по пояс рыбаком маячила далеко впереди. Остряков саженками плыл к ней. Я нырнул и под водой раскрыл глаза: на песке мельтешили желтые пятна, длинные водоросли шевелились меж зеленоватых круглых камней, а вот рыб не видно.
Я с шумом вынырнул, выдохнул воздух и, перевернувшись на спину, закачался на легкой упругой волне. Небо было зеленовато-прозрачное, высоко-высоко мелькали тоненькие золотистые черточки. Что это за птицы, определить было невозможно. Я слышал впереди мерные всплески - это в быстром темпе плыл к лодке Остряков,- в ушах стоял приятный мелодичный звон. Будто из-под воды я захватил с собой морскую глубоководную мелодию, понятную только рыбам. Мне стало спокойно и хорошо. Чтобы держаться на поверхности, я лениво шевелил ногами и руками, солнце припекало грудь, слепило глаза. Пустынное водное пространство убаюкивало, завораживало. Казалось, стерлась граница между небом и водой, я находился в иной гармоничной субстанции. Я даже на какой-то миг утратил представление, где вода, а где небо. Но это было только мгновение. Теперь новое чувство стало овладевать мною: берега я не видел, зато ощущал властное притяжение моря. Оно обволакивало тело, придавало ему плавучесть, нежно поддерживало и настойчиво манило вдаль, туда, где вода сливалась с небом.
Я стучу двумя пальцами на машинке, но на работе никак не могу сосредоточиться: в большой комнате гремит магнитофон, слышится девичий смех, веселые голоса. Задушевный женский голос поет что-то про машины, ветер, скорость… Это Марина Влади. Потом поет Высоцкий: "Нежная правда в красивых одеждах ходила-а, принарядившись для сирых блаженных калек…" Потом гремит популярный "Чингисхан", "АББА", "Баккара"…
В комнату заглядывает Варя:
- Мы тебе не мешаем, па?
Я не успеваю ответить, как она исчезает. Музыка, по ее мнению, не может никому мешать. И потом, Варя знает, что я слова ей поперек не скажу.
Оля и Варя, подложив ковровые подушки под головы, валяются на широком диване. У одной "Экран" в руках, другая слушает музыку и смотрит телевизор, звук у которого выключен. Они еще ухитряются смеяться и разговаривать…
Я не сомневался, что Оля и Варя найдут общий язык, но что так быстро подружатся, признаться, не ожидал. У Оли покладистый характер, но дочь моя не так-то просто сходилась с чужими людьми, а тут буквально за два-три дня сдружились. Вместе слушают музыку, смотрят телевизор, бегают в кино, благо кинотеатр рядом. Когда они вдвоем, я им не нужен. Так, приличия ради, перебросятся со мной несколькими словами и тут же забывают обо мне. Раз или два Оля оставалась ночевать, я спал в маленькой комнате, а они укладывались на тахте. Включали магнитофон и под чуть слышную мелодию до глубокой ночи разговаривали. Как-то сообразительная Варька предложила нам с Олей лечь в большой комнате, а она, мол, устроится в маленькой, так Оля воспротивилась. Дочь посмотрела на меня хитрющими глазами, мол, ничего не поделаешь, я тут ни при чем…
Варя подала документы в университет и теперь готовилась к приемным экзаменам. Оля, когда не была в командировке, стала чаще заходить к нам, раньше - раз в неделю, а теперь - два-три. Смешно было бы ревновать ее к собственной дочери, но факт остается фактом: Оле интереснее с Варькой, чем со мной. Может, я и не прав. Поди разберись в женской психологии! С одной стороны, мне было приятно, что они подружились, с другой - как бы это содружество не обернулось против меня? При Оле я не мог сделать замечания Варе, она сразу же вступалась за нее. И наоборот.
В общем, в моем доме царил полный матриархат.
Музыка умолкла, они обе пришли ко мне. Я знал, что Варе к пяти на консультацию в университет, так что два-три часа мы побудем с Олей вдвоем,- каково же было мое негодование, когда вместе с Варей стала прихорашиваться у зеркала и Оля. Дочь, тонко уловив мое состояние, сделала широкий жест:
- Ты не уходи, пожалуйста…- и, взглянув на меня хитрыми глазами, прибавила: - Я вернусь после семи.
Когда мы остались вдвоем, я спросил Олю:
- Куда ты-то настропалилась?
- Она ведь все понимает… Я проводила бы ее и вернулась.
- И ты думаешь, она об этом бы не догадалась?
- Она спросила: люблю ли я тебя?
- Я умираю от любопытства,- сказал я.
- Я сказала, что ты мне очень нравишься.
Ни дочь моя, ни Оля врать не умели.
- Спасибо и на этом,- вздохнул я.
Она обняла меня, мы поцеловались. Я видел, как постепенно менялся цвет ее глаз, они темнели, а щеки нежно розовели, я слышал учащающийся стук ее сердца.
- Я не всегда понимаю, когда твоя дочь серьезно говорит, а когда шутит,- позже призналась Оля.- Знаешь, что она сегодня мне выдала? Говорит, ты очень современный отец: выбрал для единственной дочери не мать-мачеху, а подругу…
- Девочка с юмором,- пробормотал я, подумав, что у Вари сильнее характер, чем у Оли: захочет - вмиг настроит ее против меня.
- Она запоем читает древних философов… Я про таких и не слышала. Знаешь, что про любовь она сказала? - Оля на миг задумалась, вспоминая.- Любовь - самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает головою, сердцем и телом…
- Много она понимает в любви!
- Это не она придумала, а Вольтер,- сказала Оля.- Только ко мне это не подходит…- Щеки ее стали розовыми, глаза заблестели.- Я, наверное, способна любить… лишь телом.
- Кому что дано,- сказал я.
Она провела рукой по моим волосам.
- Странно,- сказала она.- Вы ничуть не похожи, а вместе с тем у вас много общего. Волосы у Вари жестче, а глаза у вас почти одинаковые.
- Кроме как о Варе нам и поговорить не о чем?
- У тебя замечательная дочь,- с улыбкой сказала она.- Мы были с ней в Эрмитаже, она разбирается в живописи. Ей очень нравится Ван-Гог. Правда, что он сам себе отрезал ухо?
- Правда,- сказал я.
- А зачем?
- Ты у Вари спроси, она все знает,- подковырнул я. Рассказывать о несчастном Ван-Гоге, в припадке безумия отхватившем бритвой собственное ухо, мне совсем не хотелось. Мне хотелось поскорее обнять Олю. Варя всего-навсего отпустила нам два часа.
Глава седьмая
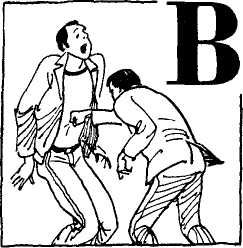
В институт я старался ходить пешком, но не всегда это получалось: увлечешься книжкой, потом ляжешь поздно, а утром ни за что не заставишь себя встать со звонком будильника, который я заводил на семь часов. Проваляешься до восьми, и начинается гонка: быстро делаешь зарядку, умываешься, бреешься, на ходу завтракаешь, выскакиваешь из дома, бежишь на автобус и только-только успеваешь на работу к девяти. Ничего страшного, если бы я и опоздал, но я не любил этого. Мои сотрудники были приучены приходить вовремя, не стоило мне подавать им дурной пример. И потом, заместитель директора Артур Германович Скобцов иногда по утрам устраивал проверку: ходил по кабинетам и записывал в блокнотик фамилии опоздавших сотрудников. Делал он это раз-два в неделю, причем в разные дни, так что сотрудники не могли точно знать - в понедельник, среду или в пятницу Скобцов будет совершать очередной обход кабинетов. Иногда его сопровождала Грымзина. Замеченным в нарушении трудовой дисциплины сотрудникам делалось соответствующее внушение, а если попадались еще раз - на доске приказов объявлялся выговор.
С улицы Салтыкова-Щедрина я выходил на Литейный и, никуда не сворачивая, шагал в толпе прохожих до самого института. В эту пору люди не глазеют на витрины магазинов, да они и закрыты. Трудящийся Ленинград спешит на службу. Это позже, когда магазины широко распахнут свои двери, приезжие и отпускники заполнят Невский, Литейный, Садовую и другие улицы города. У той толпы совсем другой темп движения.
Сорок минут занимал мой путь от дома до работы. За это время я успевал обдумать свои производственные дела. Я любовался старинными каменными зданиями, дворцами, соборами. На работу приходил бодрым, с хорошим настроением, чего нельзя было сказать, когда опаздывал и добирался в переполненном троллейбусе или автобусе.
Сразу после совещания, которое я провел с сотрудниками отдела, ко мне пришел Великанов. Я как раз стоял на подоконнике и отворял форточку: духи да запах сигарет раздражали меня. Все мои женщины поголовно курили. И мне, единственному мужчине в отделе, причем некурящему, неудобно было делать им замечания. На табличку "У нас не курят", которую я приклеил на стену, никто не обращал внимания.
- Попроси у завхоза длинную палку с крючком,- посоветовал Геннадий Андреевич.- И охота тебе всякий раз прыгать на подоконник?
Он уселся в кресло, полез в карман за сигаретами. Скоро синий дым заволок табличку "У нас не курят" перед его носом. Если курящие игнорируют ее, то для кого же я написал? Выходит, для самого себя…
- Восстановил свой реферат об ЭВМ? - поинтересовался я.
Великанов махнул рукой.
- Как говорится, что с возу упало, то пропало,- он невесело усмехнулся: - Точнее, с самолета.
"Может, пепельницу со стола убрать? - подумал я.- Тогда будут стряхивать пепел куда придется: в бронзовый стаканчик для карандашей, в мраморную подставку для листков чистой бумаги…"
Великанов был немного старше меня. Среднего роста, со склонностью к полноте, несколько одутловатым лицом, в очках с толстой оправой, он был спокойным, рассудительным человеком. Некоторые находили его скучным, но мне Геннадий Андреевич нравился. В институте я с ним сошелся ближе, чем с другими. Когда был женат, мы в праздники семьями встречались то у меня, то у него. После развода он и его жена Тамара много раз приглашали меня к себе на обед, но я всякий раз отказывался, и они перестали звонить. Почему-то не хотелось мне идти в хороший, гостеприимный, семейный дом - Великановы жили в мире и согласии,- там неизбежно возник бы разговор о моем холостяцком житье-бытье, о моей бывшей жене Оле, о Варе. А мне тошно было вспоминать прошлое… Не ходил я к ним, наверное, и потому, что сама уютная обстановка их квартиры, налаженный быт, товарищеские отношения между Тамарой и Геннадием Андреевичем - все это вызывало бы во мне сожаление о том, чего у меня нет.
- У тебя неприятности? - спросил я, когда Великанов, рассеянно глядя в окно, вытащил из пачки и закурил вторую сигарету.
- Ты был сегодня у Скобцова? - ответил он вопросом на вопрос.
У Скобцова я был вчера. Вызвал он меня якобы по поводу технических переводов, но слушал рассеянно, светлые холодные глаза его перебегали с моего лица на письменный стол, стены, где были развешаны крупные фотографии известных современных ученых, иногда в группе можно было заметить и Артура Германовича. На фотографиях он выглядел солидным, знающим себе цену ученым. Я обратил внимание, что он всегда поворачивает голову немного в сторону от объектива. Или ему кто-то сказал, что так он лучше получается, или срабатывает его привычка не смотреть людям в глаза. Объектив фотоаппарата - это тоже своего рода глаза.
Мы немного поговорили о переводах, Скобцов доверительно поинтересовался моим мнением по поводу деловых качеств Грымзиной. Я ответил, что она слабая переводчица, но зато активный профсоюзный деятель… Скобцов понимающе улыбнулся.
- В октябре выборы местного комитета,- сказал он.- Я думаю, Евгения Валентиновна потянет на председателя?
Я промолчал. Наверное, потянет. О профсоюзной работе я имел смутное представление: раз в год присутствовал на отчетно-выборном собрании, исправно платил членские взносы, один раз был избран делегатом на районную профсоюзную конференцию.