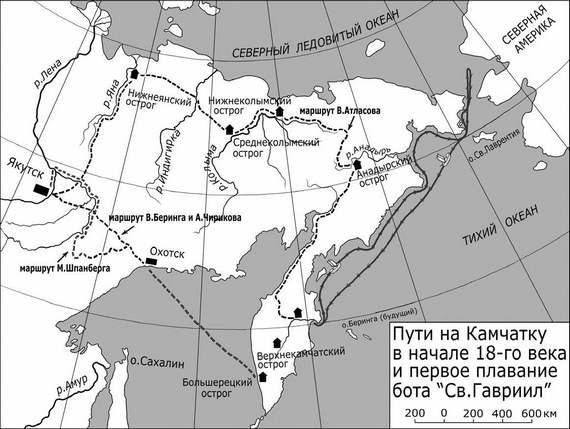* * *
После отплытия бота и шитика события продолжали активно развиваться. Сразу по убытии судов собрался малый казачий круг, в который, как оказалось, входят семь человек, не считая Митьки. Прежде всего решили, что большой круг собираться не будет – никакой вольницы! Мы все дружно служим Берингу, а кто не желает – в кандалы, в казенку, под батоги. Потом стали обсуждать, что делать сейчас и что после того, как вернутся корабли или станет ясно, что в этом году их не будет. Против плана Козыревского возражать никто не решился, а может быть, никто не придумал что-то более дельное.
Три дня спустя из Большерецка отбыл отряд из трех десятков наиболее боеспособных и хорошо вооруженных казаков во главе с новыми начальниками Камчатки – капитаном Берингом и десятником Шубиным. Отряд должен был известным путем наискосок пересечь полуостров и добраться до устья Камчатки. По пути предстояло силой или лаской замирить мятежных камчадалов, а русских "привести к присяге" новому начальству. Обязанности распределились просто: ительмены в ведении Митрия Малахова, казаками занимается Андрей Шубин, а капитан Беринг делает важный вид и "светит" мундиром. Он – знамя и символ, его именем здесь все и творится.
Этот поход продолжался чуть более полутора месяцев. Отчет о нем Митька давал Козыревскому… на борту "Святого Гавриила", который качался на рейде близ устья реки Камчатки. Служилый перебирал свои записи и скрупулезно перечислял, кто из русских погиб или пострадал в боевых стычках, кто был казнен или бит батогами за несогласие с проводимой политикой. Потом он перешел к камчадалам и зачитал, кто из них был убит русскими, а кто – своими. В целом от Верхнекамчатского острога ительмены ушли добровольно, получив богатые подарки от "доброго" начальника Беринга. Камчадалы, занявшие Нижний острог, к этому времени наполовину разошлись по домам, а оставшиеся успели чуть ли не поголовно пройти обряд христианского крещения и дружно посещали церковные службы отца Иосифа. Федор Харчин, при всем своем самодурстве, согласился освободить аманатов и оставить крепость в обмен на подтверждение его звания ительменского комиссара. Состоялась его официальная встреча с Берингом, облаченным в парадный флотский мундир. Наверное, Федор принял его за самого царя или русского Бога, сошедшего на землю. Он поклялся верно ему служить и покарать всех, кто так делать не захочет.
Склады на устье оказались нетронутыми – у ительменов просто не дошли до них руки. А вот казачья команда, оставленная для охраны, сдать объект категорически отказалась. Беринг остался в Нижнекамчатске, Андрей Шубин не был для здешних казаков авторитетом, а Митрию Малахову они грозились свернуть шею при первой же возможности. В общем, назревало серьезное кровопролитие, когда на горизонте показались паруса "Гавриила". Реакция Козыревского оказалась для Митьки неожиданной.
– Да и хрен-то с ними! – сказал монах и добавил: – До времени, конешно.
Он рассказал, как развивались события в Большерецке. Отплытие кораблей, отправка команды служилых вверх по реке Большой не остались, конечно, незамеченными ительменами. Обезлюдевший острог казался им если и не легкой добычей, то, по крайней мере, доступной. Окрестные леса и сопки буквально кишели вооруженными камчадалами, ждущими своего часа. Русское укрепление было обречено, если бы… Если бы все шло как всегда. В данном случае казачья старшина во главе с Козыревским отнеслась к ситуации более чем серьезно. Посад Большерецка и заимки были срочно эвакуированы в крепость, острог переведен на осадное положение с жестокими наказаниями за нарушение дисциплины и особенно за небрежение при несении караула. Уже одно это сделало довольно хилое деревянное укрепление практически неприступным для противника с его костяными стрелами и копьями.
Как только стало ясно, что казаки перерезать себя не дадут и победа, скорее всего, опять останется за ними, появились перебежчики и добровольные шпионы, желавшие выслужиться перед русскими или подгадить своим единокровным врагам. В общем, информации о противнике хватало – только успевай анализировать и использовать. А специалисты по этой части среди русских были – несколько ветеранов освоения Камчатки, не говоря уж о самом Козыревском.
В окрестностях Большерецка разместились воины лигнурин, кыкша-ай и курильцев. Прибыл даже небольшой отряд от группы кулес. Отношения между ними и раныпе-то были сложными, а тут… Как раз в тот момент, когда тойоны уже почти договорились о дне совместного нападения на крепость, прибежал гонец и сообщил, что на берегу протоки обнаружен труп воина кыкша-ай, убитого стрелами лигнурин. Присутствующие тойоны лигнурин, перебивая друг друга, принялись кричать, что это клевета, зато они точно знают, что кыкша-ай в тайне от всех ведут переговоры с русскими. Тойон же курильцев заявил, что не нуждается в таких союзниках и будет воевать с русскими сам. В общем, события начали развиваться по знакомому сценарию…
Тем не менее в течение одной недели были предприняты две попытки взять острог, конечно же не открытым штурмом. В первый раз воины подобрались к стенам ветреной темной ночью, а второй раз – под покровом непроглядного тумана, залившего все окрестности. В обоих случаях стража вовремя заметила атакующих, и нападения принесли русским больше пользы, чем вреда, – повысили бдительность. Второй раз казаки устроили даже ответную вылазку и выловили в тумане трех отставших ительменов. Потом их, изрядно избитых, нагрузили подарками, посланиями и отпустили на волю.
В течение нескольких следующих дней удалось наладить довольно активные сепаратные переговоры с разными группами камчадалов. Туземцы были верны своим традициям – они легко предавали союзников и ссорились друг с другом. Раз за разом им объясняли, что власть злых русских на Камчатке кончилась, что теперь будет править добрый немец Беринг. Кто такие немцы, ительмены знали еще меньше, чем казаки, но понимали, что произошли некие перемены. Бывшие обидчики настоятельно советовали им не лазить с копьями по кустам, а вернуться домой и заняться рыбалкой. Кроме того, казаки рекомендовали своим "друзьям" подумать, кто из тойонов будет собирать ясак со всех сородичей разом и привозить его в острог. "А если такового тойона не сыщется и ясака не будет, то мы опять будем собирать его сами – тогда уж не обессудьте".
– Сами-то служилые в се веруют? – ухмыльнулся Митька.
– С чего бы? – улыбнулся в ответ Козыревский. – Замириться надо, а там по новой всех скрутим. Ладно, поживем – увидим, кто кого скрутит. Да, запамятовал: аманатов-та я сразу повелел отпустить из острога.
– Так и мы отпустили из Верхнего, – кивнул Митька. – Все одно толку чуть, разве что юколу аманатскую под них брать. А чем дело-то в Большерецке порешилось?
– Того не ведаю, Митрий. Кажись, отошли иноземцы. Наши уж промыслом рыбным по малости занялись, а тут и корабли объявились. Сначала "Гавриил", а день после и "Фортуна" пришла. Кажись, без большой беды добрались, тока разбрелись под конец.
– Оне с Охотска без бою ушли?
– Без смертоубийства, кажись, обошлось, тока с лаем. Да там уж два новых корабля достраивают. Сказывают, Федька Козлов на ту работу глянул, так изматери лея весь.
– Куды уж нашим-то сиволапым за ним, столичным, угнаться! – усмехнулся Митька. – Када покончат-то?
– Ну, в сем годе им не плавать. Кажись, до след лета нас тревожить не станут.
– Се благо.
– Ясен хрен, – кивнул отец Игнатий и улыбнулся доверчиво, как равному: – А меня вот бес понес – велел я корабли гнать в Восточное море, не держать на Большой. И сам с ними подался, как видишь. Меж Курильской Лопаткой и островами Мошков уж третий раз шел, а все одно страху хватили – ух!.. В обчем, меж приливом и отливом надо было идти, а мы по приливу сунулись! Думал, шлюпку на палубу волной закинет… Однако ж Бог сохранил!
– Хто тебя хранит, – хихикнул Митька, – мне неведомо.
– Мне тож, – без улыбки ответил монах. – Пересадил я Ваньку Бутина на "Фортуну" и велел им бухту на Аваче разведывать. Он тот раз с Мошковым бывал там. Пущай оне с Треской стараются. Мнится мне, надобно там острог рубить.
– Мудер ты, отец Игнатий, ох и мудер!
– А будешь глумиться, сыне, по сусалам получишь! – показал кулак инок.
– Каюсь, отче, помилосердствуй!
– Я те помилосердствую!.. – беззлобно отмахнулся Козыревский и как бы пожаловался: – Думка у меня завелась, а те все хиханьки! Время-то нынче раннее – считай, ишшо месяц плавать можно. Вот и мыслю: Беринг-та, может, не зря к восходу ходил? Вы, конешно, набрехали ему с три короба… Однако ж слыхал я, будто ученые мужики в Европах каку-то землю от нас к восходу на чертежах рисуют. Там, дескать, песок из серебра, а камни из золота. Иль наоборот – не упомню.
– Не сидится тебе, – понимающе кивнул Митька. – Правил бы Камчаткой, аки царь, покуда нас всех в железа не заковали!
– То-то и оно, что покуда! – отметил монах. – Затея твоя с немцем этим, с челобитными да письмами, конешно, дельная… Тока шита она на живую нитку. Сей Беринг, мнится мне, и сам пред государем виновен. Глядишь, его первого и закуют.
– Удумай чо получше! – слегка обиделся Митька.
– Давно уж удумал, – твердо сказал Козыревский. – Надобно нам правду свою выслужить – приискать чо-нито государю. Коль найдем землицу со златом-серебром, нас не в кнуты возьмут, нас в задницу целовать станут! А без того… Ить мы след год полного ясаку с камчадалов не возьмем. А коли силой выбьем, так опять их замутим.
– А мы чо немцы наторговали, то в счет ясака и сдадим, – предложил Митька. – Глядишь, с казной и сочтемся.
– Может, и сочтемся. Однако ж казаки замутятся. Сию рухлядь оне своим прибытком числят.
Дуванить уж звали, насилу отговорил. А нам-то не счесться с казной надо, нам бы прибыток ей учинить. А того сверх Якутск да Тобольск одарить! Потому и мыслю я про землицу к восходу. Чо скажешь, Митрий?
– Мнится мне, – невесело усмехнулся служилый, – будто ты, отец Игнатий, бесовского прозрения от меня желаешь?
– Желаю! – признал инок.
"Промолчать? Соврать? Поделиться чужим знанием? – Колебание было коротким и мучительным, как боль от отдавленной мозоли. – Замахнулся, так бей…"
– Дядь Вань, есть там землица, – робко сказал Митька. – Остров не большой и не малый: верст сорок вдаль да десять вширь. Нет на ем ни серебра, ни злата. Тока бобер там густо водится и иной зверь морской – корова Божья. Потому она Божья, что никому зла не чинит. С одной той коровы всю Камчатку полгода кормить можно. Она ж с малого кита станет, а жир сладкий и мясо не смердит. Веришь ли?
– Верю… – задумчиво сказал Козыревский. – И вдруг вскочил, схватил собеседника за грудки: – Митька, не обмани тока! Коли мы след год бобрами двойной ясак государю дадим, коли Якутск и Тобольск задарим… Ух! Сказывай, где та земля?!!
– Дядь Вань, ты мне сколь лет за отца как бы… – замялся Митька. – Чо бес мне оставил, от тя не сокрою. Тока накрепко заповедал он мне…
– Чо?
– В опчем, забижать тех коров морских не можно. Сколь употребить мыслишь, возьми на благое дело, а более того – грех незамолимый. Может, Господь нам и послал их, аки манну небесную? Нет их более нигде – на всем белом свете.
– Эка загнул! – усмехнулся Козыревский, усаживаясь на свое место. – Коли найдем сию землицу, сам и будешь блюсти тех коров. Кажись, теперь мы тут хозяева.
– Не можно мне с вами, отец Игнатий, – покачал головой Митька. – Некого мне за себя тут оставить.
– Эт верно, – признал Козыревский. – Се не мальца слова, но мужа. Того и гляди утонет в крови Камчатка. А мягкая рухлядь нам нужна – не соберем мы сей год ни хрена с камчадалов. А не будет государю ясака, не сносить нам голов! Ну?!
– Да не таюсь я, дядь Вань, не таюсь, – пробормотал Митька и как в омут прыгнул: – От Камчатки устья верст сто к восходу и самую малость на полдень!
– И всего-та?!
– Ну, дык… Хошь, чертеж по памяти прорисую?
* * *
Бот "Святой Гавриил" вернулся на устье Камчатки через две недели. Здесь его никто не встретил, и командир, согласно договоренности, приказал идти на Авачинскую бухту. Вот там оказалось людно: и встретили, и фарватером провели, и, где лучше якорь кинуть, указали. Неподалеку уже стояла "Фортуна", успевшая двумя рейсами перевезти грузы из складов на устье Камчатки. А на берегу стучали топоры, подрастали срубы изб и амбаров.
Митька был рад возвращению Козыревского – все-таки он не очень уверенно чувствовал себя в роли начальника, тем более, что формально он таковым и не являлся. С другой стороны, ему стало почти страшно: трюм "Гавриила" оказался забит шкурами каланов, мясом и салом морских коров. Это было огромное богатство, ведь один "бобер" по стоимости соответствует десятку, а то и полутора десяткам соболей. Команда бота за насколько дней добыла пушнины на невообразимую для простого человека сумму – от нее и голова кругом пойти может. У него-то самого не пойдет, а у других?
Однако служилый недооценил монаха – Козыревский прекрасно знал, что такое "пушная лихорадка", и был сдержан в оценках:
– Коли прознают в Якутске, како тут богатство рядом лежит, сметут нас, аки сор со стола, и пикнуть не сможем. Тут, паря, с умом надо.
– Поди, удумал уже, отец Игнатий? – улыбнулся Митька. – Сказывай, не таись!
– Чо мне таиться-та? – пожал плечами мореплаватель. – По первости велел я людишкам нашим, кто на боте ходил, языки придержать, не то худо будет. Тока веры в это, конешно, мало. Далее так. Служилым заплатим, кому скока жалованья недодали, – как бы Беринг заплатит. Остатнее раскинем на ясак да подарки – воеводе и губернатору. А вперед того хочу я архимандрита якутского умаслить. Не люб он мне, а я ему, однако ж дело того требует. Коли смилостивится Феофан, так пущай сей остров испросит в монастырское владение и повелит мне там обитель строить. Иль монастырь заложить.
– Однако!.. – опешил Митька. – Дык там, поди, и лесу-та нет?
– Нет, конешно, тока сия беда невелика – коль надо будет, так морем натаскаем. Скажу я тебе, Митрий… Ить не соврал ты, кажись, тогда – с Чириковым-та. От того острова недалече ишшо один имеется – поменее будет. А далее к восходу совсем мелкие лежат, однако ж густо. Мы к ним не ходили, тока издаля глянули. А вот след год…
– Отец Игнатий! – с улыбкой перебил Митька. – Нам бы живу быть след год-та!
– Се верно… – вздохнул монах. – Про то опосля потолкуем. Думается мне, по зиме в Якутск надо ехать с подарками. Иначе никак.
– Съездим, – кивнул Митька. – Про се есть у меня задумка…
На душе у служилого был праздник – тихий, спокойный праздник. Новый лад, новое бытие из безумной затеи становилось реальностью. Совсем необязательно, что по этому, иному ладу прольется меньше людской крови, меньше трудов человеческих окажется напрасным. Но для надежды на лучшее есть основания – кажется, есть.
– Как остров-то наречешь? – спросил служилый.
– Знамо дело, – ухмыльнулся монах. – Именем Беринга!