Олег Орлов
ПРОДАЕТСЯ СЛАВЯНСКИЙ ШКАФ
О двойниках, существующих и действующих в реальной жизни, достаточно исчерпывающе рассказал нашим читателям Александр Глазунов ("Если" № 2,1993 г.). Статью с согласия журнала перепечатали многие издания, так что возвращаться к этой теме пока рановато. Однако существует иной тип двойников, мало известный широкой публике. Это агенты спецслужб (недаром в рассказе Ч. Уайлдера действует подобный персонаж). О "двойниках" "подставах", "нелегалах", а также о перспективах российских спецслужб рассказывает офицер действующего резерва Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Проблема "двойников" является частным случаем другой, более широкой - двойной жизни. Каждый человек играет в жизни какую-то роль, но в наивысшей форме это проявляется в игре актеров, а с другой стороны, в работе, как это ни парадоксально, агентов спецслужб. И не важно, какими мотивами руководствуется агент - идейными или меркантильными, поскольку его жизнь - жизнь человека в маске. Со временем маска так прирастает к лицу, что становится невозможно разделить, где кончается подлинная сущность человека и начинается образ, который он вынужден играть.
Термин "двойник" - определение, прочно вошедшее не только в шпионские романы, но и в научные разработки.
Например, существующий словарь разведывательных терминов, который был подготовлен специалистами Краснознаменного института ПГУ КГБ СССР, определяет двойника как агента, работающего по собственной инициативе на две и более иностранные разведки, которые могут не подозревать о всем спектре его контактов.
Феномен двойника в классическом значении скорее характерен для европейских реалий Средневековья, Возрождения и до определенной степени нового времени. Атмосфера интриг основных европейских дворов выталкивала на поверхность такие колоритные фигуры, как граф Калиостро, Бомарше, Талейран.
Именно они, пожалуй, и стали первыми гражданами мира, космополитами, им были безразличны национальные интересы и то, кому продавать информацию.
Торговля секретами, слухами, информацией становилась не только источником денег, но и образом жизни. И не имело значения, что одни и те же сведения "двойники" могли продавать в Санкт-Петербург или Вену, Лондон или Мадрид. В какой-то степени их можно сравнить со свободными художниками, занимающимися своим делом не столько из желания набить карман, сколько из любви к высокому искусству.
Золотой век двойников в каноническом понимании закончился первой мировой войной. Последний цветок этого поля - знаменитая Мата Хари, голландка, одновременно работавшая на немцев и англичан. Обстоятельства гибели этой легендарной шпионки не ясны до сих пор. Ее расстреляли быстро и безо всякого следствия. Очевидно, кто- то хотел замести следы.
Времена, последовавшие за победой революции в России, во многом изменили работу разведок и дали им новое измерение. На смену агенту-двойнику в соответствии с новыми политическими реалиями появляется агент-"подстава".
"Подстава" - одно из наиболее эффективных орудий в войне между советскими и западными разведывательными сообществами, которая длилась на протяжении 70 лет. Этот термин на профессиональном жаргоне означает разведчика, который целенаправленно внедряется а агентурную сеть противника, естественно, не подозревающего, с кем имеет дело.
Такой подход позволяет определять интересы противника к тому или иному объекту, от применяемых им шифров, кодов и до целенаправленной дезинформации и сбора компромата на кадровых офицеров вражеских разведслужб. Поэтому советские разведчики с легальным прикрытием крайне боялись наскочить на американскую, например, "подставу". Учитывая наши реалии, это влекло за собой досрочную отправку на родину и соответствующие оргвыводы.
Тем не менее и наше время дало несколько выродившиеся образцы агентов-двойников, близких к традиционному пониманию этого термина. Одним из них стал Александр Огородник, сын отставного адмирала, бывший нахимовец, выведенный в романе Юлиана Семенова "ТАСС уполномочен заявить…".
Будучи агентом 2 управления КГБ и переданный затем на связь в управление "К" ПГУ (внешняя контрразведка, тогда возглавляемая генералом Калугиным), Огородник, находясь в роли атташе посольства СССР в Колумбии, предложил свои услуги ЦРУ. По возвращении в Москву он жил в доме рядом с Зубовской площадью и успешно работал на два фронта, числясь в управлении по планированию внешней политики МИДа СССР. Фактически он имел доступ ко всей информации, которая поступала на Смоленскую площадь как. из посольств, так и заинтересованных ведомств. В дальнейшем ПГУ сумело определить утечку информации и вычислить ее источник. Однако во время ареста Огородник покончил с собой при весьма темных обстоятельствах.
В ситуации противостояния Восток - Запад использование определения "двойник" не только вносит терминологическую путаницу, но и ставит много вопросов. Многие кадровые офицеры советских спецслужб, начиная с полковника ГРУ Генштаба СССР Олега Пеньковского, расстрелянного в 1963, и кончая полковником КГБ Олегом Горди- евским, и.о. резидента КГБ в Лондоне, бежавшим в 1986 году, пошли на сотрудничество с Западом. Был ли это осознанный политический выбор или меркантильный расчет, понять уже, наверное, не дано. Им противостоит блестящая "оксфордская семерка" во главе с Кимом Филби и один из руководителей британской разведки Джордж Блейк, которых на Западе считают предателями. Однако не может быть ни малейших сомнений в том, что их сотрудничество с советской разведкой было основано на чисто идеалистических представлениях. Заместителю начальника британской разведки мало что можно было предложить в материальном плане.
Филби речь не идет о двойниках, поскольку они были кадровыми сотрудниками. В принципе использование кадрового офицера в качестве "подставы" исключено. Спецслужба противника использует его в первую очередь для получения информации о резидентуре и работе центрального аппарата разведки.
Впрочем, выведенные в повести Черри Уайлдера образы полностью мимикрирующих под окружающую среду агентов в большей степени, нежели двойникам, соответствуют другой категории работников спецслужб, а именно "нелегалам".
Управление "С" по работе с нелегалами всегда было одним из самых привилегированных и законспирированных подразделений КГБ. Если обычный агент действует в более-менее привычной среде, то - нелегал должен стать своим среди чужих. Это человек, который меняет свое "я", чтобы войти в принципиально новую среду обитания, отказываясь при этом от прошлой жизни, семьи, привязанностей. Их отбирали и готовили специально, даже не из кадров высшей разведывательной школы.
Наши первые нелегалы - бывшие коминтерновцы - были, несмотря на свой героизм, любителями. Тот же Рихард Зорге, Шандор Радо, Леопольд Треппер и другие. Эти убежденные коммунисты считали своим долгом продолжать борьбу против гитлеризма. И как правило, если не погибли в борьбе, как Зорге, то попали после войны в ГУЛАГ.
После войны на передний план вышли нелегалы-профессионалы, кадровые офицвры советской разведки, военной либо политической. Это полковники Рудольф Абель и Конон Молодый, известный как Гордон Лонсдейл (сюжет фильма "Мертвый сезон" основан именно на его истории). Молодый-Лон- сдейл приехал в Англию через Канаду, открыл собственное дело и стал преуспевающим бизнесменом. Он сумел вовлечь в свою сеть группу офицеров военно-морского ведомства Великобритании, разрабатывавшего новые виды оружия. После провала Абеля в 1963 году обменяли на сбитого летчика Пау- эрса, а Молодого-Лонсдейла в 1965 - на Винна, связника Олвга Пвньковского.
Вообще конец 50-х - начало 60-х - время расцвета советской разведки, когда для нее не существовало никаких секретов. Одновременно наша разведка была самой дешевой, поскольку ни Филби, ни Блейк, ни Берджес и Маклин (аристократы, работввшив на Советы С 1939 по 1960 год) за свою работу денвг не требовали.
Нелегалы, такие как Лонсдейл, считаются выдающимися образцами. В жизни же, как правило, все обстояло прозаичнее и драматичнее. Нелегальная свть создавалась не столько для активной работы, сколько как резервная система на случай чрезвычайной ситуации - войны, разрыва дипломатических отношений. Их использовали для вербовки "под чужим флагом" в странах третьего мира, некоторых агентов нелегалы привлекали, представляясь сотрудниками западных спецслужб. Многие из тех, кто оставил в Москве семьи, годами ждали "своего мгновения", которое так никогда и не пришло. Другие, когда над ними нависала реальная угроза провала, бежали, бросая все, иногда даже родившихся на вражеской территории детей.
Практически все нелегалы - это люди со сломанной судьбой. Они были чужими там, куда их забросила "рука Москвы", а вернувшись, стали чужими у себя дома. Существовало железное правило: бывших нелегалов сразу ставили под контроль службы наружного наблюдения. Считалось, что они могли быть перевербованными, поэтому их устраняли от активной работы и помещали в тихие "отстойники". Спутниками многих вернувшихся нелегалов стали депрессия и алкоголизм. Поскольку основным стимулом их деятельности были идейные мотивы, многие, оказавшись в СССР и столкнувшись с реальной действительностью, не выдерживали краха собственных иллюзий. Единственным исключением в этом печальном перечне является Василий Зарубин (прототип героя романа "Рекламное агентство господина Кочека"). Проввдя всю войну в Германии, он стал единственным нелегалом, получившим генеральское звание.
Распад двухполюсного мира привел к тому, что мы вновь возвращаемся к геополитической схеме начала века. До сих пор борьба с "Главным противником" (в официальных документах значилось - ГП) была единственным и достаточным основанием для безбедного существования разведок и спецслужб. Его исчезновение поставило в деликатное положение не только остатки некогда всесильного КГБ, но и их коллег-соперников. Они вынуждены доказывать свою необходимость попытками борьбы с утечкой радиоактивных материалов или атомных технологий и умов в пороговые страны, а также борьбой с наркобизнесом. Между СВР, ЦРУ, Интеллвнджес Сервис, Моссад и даже южноафриканской БОСС идут активные контакты.
В некогда монолитном сообществе западных спецслужб уже сейчас видны трещины. Разведки активно "разрабатывают" друг друга и охотятся за секретами вчерашних соратников. Американцы жалуются на французских и японских коллвг, пытающихся проникнуть в их технологические секреты. В новых политических условиях на первый план может выйти уже знакомая нам фигура двойного, а то и тройного агента. И новая демократическая Россия, где девизом значительной части населения стало: "Спасайся, кто может!", - похоже, становится хорошим компостом для их произрастания.
Потребителем информации из России могут стать не только несколько объевшиеся нашими секретами шпионы стран Запада, но и третьего мира, начиная с Ирака (в Москве всегда очень активно работала резидентура иракской военной разведки) и. кончая Китаем. Как ни парадоксально, но в последнее время Россия становится полем борьбы между спецслужбами Ирака и Израиля. Кстати, наши подпольные торговцы ядерными компонентами и технологиями, как огня, боятся не столько родное Министерство безопасности, сколько ребят из Моссада.
Российская разведка оставляет завоеванные ранее позиции. Причина все та же - нет денег. Сокращение кадрового состава в бывшем ЛГУ приобрело хронический характер. Многие из тех, кто имел возможности и способности, ушли в солидные фирмы и банки, либо обзавелись собственными. Остаются сотрудники, дожидающиеся пенсии, да не имеющая опыта молодежь. В наших "западных" резидентурах царит страх быть сокращенным, многие из-за этого боятся даже уходить в отпуск.
Существует, пожалуй, поле, где потребность в политической разведке сохраняется. Это "ближнее" зарубежье. Обмен любезностями глав бывших союзных республик не должен вводить в заблуждение - Москве нужно знать, что говорят и чем дышат в Ташкенте, Киеве или Кишиневе. Другой вопрос, что служба внешней разведки (СВР) в нынешнем состоянии для этого малопригодна. Министерство безопасности (а в нем остались и пограничники со своей собственной разведкой, и бывшее Третье управление военной контрразведки КГБ), поступающей по его каналам информацией делится неохотно. Вот и приходится работникам СВР черпать сведения, например, о Таджикистане из газет или отчетов резидентов в Пакистане.
Структурно для сбора информации по СНГ, конечно, больше подходит Министерство безопасности, но вряд ли оно уступит военной разведке даже часть ассигнований, которые могло бы получить само. Лучше же всех из бывших советских спецслужб живет ГРУ Генштаба МО. Сокращения до них не докатились. Если ПГУ обвиняли в политическом сыске, то военный шпионаж - дело, в принципе, аполитичное, и особых претензий к ГРУ у демократов не было. А теперь, после октябрьской трагедии в Москве, с армией вряд ли кто-то захочет ссориться. И политики, вне зависимости от своего окраса, средств на нее не пожалеют.
"Я, Дубов Сергей Дмитриевич, считаю своим долгом заявить следующее по вопросам, связанным с моей работой на ЦРУ…" На мгновение Дубов задумался, поднес ручку ко рту и свалился на пол, лицо его стало синеть; "скорая помощь", вызванная из Склифосовского, констатировала отек легких; три часа Дубова пытались спасти. В десять часов он умер; вскрытие показало идентичность яда, от которого погибла Ольга Винтер и он, агент ЦРУ, "Умный". Доктор, проводивший вскрытие Дубова, потерял сознание, вдохнув пары яда, вторая бригада работала в противогазах".
Юлиан Семенов. "ТАСС уполномочен заявить…"
Мак Рейнольдс
УТОПИЯ
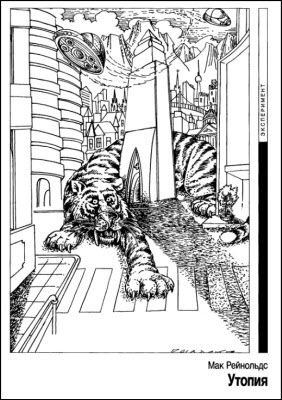
Проснувшись во второй раз, он убедился, что пища стала более разнообразной и обильной. А вскоре они выкатили его кресло на веранду. Он сразу узнал это место. Никаких других зданий вокруг не было видно, но сомневаться не приходилось: он находился примерно в миле от мыса Эспартель, на вершине горы, которая возвышалась над Танжером, и откуда открывался вид на Испанию и Атлантический океан.
Все остальное было для него новым. Архитектура дома - фантастическая. Кресло, в котором он сидел, не имело колес, но везло его куда угодно по малейшему мановению руки человека, назвавшегося Джо Эдмондсом.
Вся троица - девушку, как оказалось, звали Бетти Стайн - сопровождала его на террасу, обращаясь с ним, как с хрупкой фарфоровой вазой. Несмотря на слабость, Трейси Когсуэлл еще был способен испытывать нетерпение и любопытство.
- Мой локоть… - сказал он. - Локоть стал меня слушаться. А ведь он вышел из строя в… в 1939 году.
Академик Стайн встревоженно склонился над ним:
- Главное, не волнуйтесь, Трейси Когсуэлл, вам нельзя переутомляться.
Тот, что помоложе, - Эдмонс - сказал с ухмылкой:
- Прежде чем привести вас в сознание, мы позаботились и о локте и о других ваших, гм, слабых местах.
У Трейси на языке вертелся вопрос: "Где я?" Но он ведь знал, где находится. Несмотря на всю ирреальность происходящего, он точно определил свое местонахождение: в трех милях от Танжера, в самом странном доме, какой ему приходилось когда- либо встречать. И в самом роскошном - это он сразу почувствовал. Видимо, он попал в руки противников; только мультимиллионер мог позволить себе такое великолепие, а в их движении мультимиллионеров не было.
Он взвесил слова Джо Эдмондса и принял их к сведению. Но от этого ситуация не прояснилась. Он ведь помнил, что в Лондоне его рукой занималось некое светило хирургии. Тогда профессор спас ему локоть, однако предупредил, что рука никогда уже не будет в порядке. А теперь она была в порядке - впервые после той передряги на Эбро.
На третий день он поднялся на ноги, начал ходить и попытался проанализировать ситуацию. Более отдаленные аспекты его пока не занимали. Возможно, со временем объяснение появится. Теперь же ему необходимо понять, на каком он здесь положении.
На плен это не похоже, хотя видимость бывает обманчивой. Несвобода не обязательно должна ассоциироваться со стальными решетками и запорами. Эти три типа в странных одеяниях, опекавшие его, выглядели вполне миролюбиво. Однако Трейси Когсуэлл много чего повидал на своем веку, вращаясь в разных политических сферах, и знал, что милейший добряк, который обожает детей и свой маленький садик, не моргнув, может приговорить тебя к газовой камере или к расстрелу.
Мелькнула мысль о побеге. Нет, еще рано. Начать с того, что ему это просто не под силу. Слишком слаб. И потом, нужно выяснить, что же здесь происходит. Может быть… вряд ли, но возможно- то, чего не понимает он, понимает Исполнительный Комитет.
Он самостоятельно добрался до террасы и занял нечто вроде шезлонга - один из немногих здешних предметов, назначение которого было ему понятно. В интерьере этого сверхавтоматизированного дома обычная мебель казалась инородным телом.
Ленивой походкой на террасу взошел Джо Эдмондс. При виде Трейси он вопросительно поднял брови. Сегодня на нем были шорты; шорты и шлепанцы, непонятным образом державшиеся на ступнях без помощи какого бы то ни было ремешка. Джо то и дело щелчком, как монету, подбрасывал вверх плоский зеленый камешек.
- Как вы себя чувствуете? - спросил он.
- Что это у вас за штуковина? - раздраженно спросил Когсуэлл вместо ответа.
- Это? - мягко переспросил Эдмондс. - Это нефрит. Вам приятны осязательные ощущения?
Когсуэлл хмуро покосился на него.
- Китайцы веками изучали свойства нефрита, - продолжал Эдмондс. - Общение с камнями они возвели в ранг искусства. У меня неплохая коллекция нефрита. Я вожусь с ней не меньше двух часов в день. Умение получать тактильное удовольствие от поглаживания нефрита приходит отнюдь не сразу.
- Вы хотите сказать, что вам больше делать нечего, кроме как поглаживать эту зеленую гальку?
Тон Когсуэлла заставил Джо Эдмондса покраснеть.
- Конечно, есть и менее безобидные способы проводить время, - сказал он.
В дверях появился Уолтер Стайн и озабоченно поглядел на Трейси:
- Как вы себя чувствуете? Надеюсь, вы не утомились?
"Вылитый Пол Лукас, - решил про себя Трейси. - Пол Лукас в роли доктора медицины".
Вслух он сказал:
- Ну вот что: если мне не объяснят, что здесь происходит, у меня, я чувствую, крыша поедет. Я понимаю, что так или иначе, но вы вытащили меня из какого-то безумного кошмара, в который я влип. Похоже, я совсем сломался, нервы не выдержали.
Джо Эдмондс снисходительно хмыкнул.
Когсуэлл повернулся к нему:
- Что тут смешного?
Академик Стайн поднял руку:
- Не надо обижаться. Джо определенно не блещет чувством юмора. Видите ли, мы не спасали вас от нервного кризиса. Напротив, это мы вам его устроили. Пожалуйста, простите нас.
Трейси Когсуэлл уставился на него.
Стайн поежился и спросил чуть ли не с робостью:
- Мистер Когсуэлл, вы догадываетесь, где находитесь?
- Конечно. Вон там за проливом - Испания.