Сказал и прикусил язык. А вдруг офицер задумает проверить цистерны с нефтью. Ведь в пустой цистерне имеется знатный груз: принц крови и король хлеба. Хорошая добыча для красных.
Так оно и происходит. Офицер идет в трюм с электрическим фонариком в руке. Капитан Баррас исключительно словоохотлив. Он обращает внимание уважаемого офицера, что эта яхта отличается исключительной быстроходностью и сопротивляемостью переборок. Он высчитывает количество лошадиных сил машины и рассказывает об особой конструкции ее котлов. Он предлагает офицеру попробовать вот эти сигары, настоящую гавану.
- Какой аромат! Какая мягкость табака! И обратите внимание на плотность пепла.
Офицер ощущает аромат и мягкость гаваны и обращает внимание на плотность ее пепла, а капитан Баррас юрко снует между цистернами. Щелкает по цистерне, в которой сидят его пассажиры. Она издает глухой звук.
- Пустая, - говорит он и рискованно предлагает: - Может быть, вам угодно заглянуть внутрь?
- Не стоит. По звуку слышно, - отвечает офицер.
У-ф-ф! Отлегло! Словесный поток капитана Барраса сразу иссякает. Офицер, осмотрев трюм, прощается с капитаном.
- Причальте к Мадере и дальше не пускайтесь без пропуска в путь. Вот вам удостоверение, что ваше судно осмотрено. Оно действительно до первой стоянки.
Офицер козыряет. Капитан тоже козыряет. Военное судно снимает трап и уходит. Из трюма, измазанные нефтью, выползают пассажиры капитана Барраса.
Король - снова король. Разве он плакал? Ничего подобного. Он выпрямляет спину и громко, по-королевски приказывает:
- Дик. Долой с меня эту дрянь! Ванну!
Приняв ванну и переменив платье, он надевает не кепку, а цилиндр. Он, король, окончательно уверовал в свою звезду.
Машина молчит. Винты замерли. Топлива больше нет.
Ни литра нефти. Яхту несет течением. Куда? Зачем? Может быть, ее прибьет к берегу? Но может быть, ее отнесет в открытый океан. Может быть.
Начинается шторм. Море бугрится и вздымает зеленые бугры. Яхта всползает на водяные горы и скользит с их гребней вниз между двумя водяными стенами. Может быть, ее разобьет штормом, как яичную скорлупу? Может быть…
Его высочество лежит на качающейся койке в каюте. На желтом лице застыла бессмысленная улыбка. Засохшие, потрескавшиеся синие губы шепчут:
- Кокаин… Я умираю… Дайте мне кокаин…
Капитан Баррас бегает по палубе. Зачем он взялся за эту историю. Ведь он не король, не принц, не лорд, а просто капитан. Всего-навсего. Чеки? Хе-хе! Чего они стоят? Пустая бумажка! Химера!
Ундерлип сидит на ванте, на веревках. Он беднее последнего нищего. Он больше не король. У него нет ничего. Ни-че-го! Даже нет слез.
- Берег! - доносится с рубки.
Яхту несет к берегу. Суровые скалы, белое кружево пены у их ног. Волны ударяются о каменную грудь, разбиваются в седую пыль. Они взлетают вверх серебряным облаком.
Если яхта ударится о берег, ее разнесет в щепки. Но машина умерла, винты молчат… Яхта разобьется о скалы.
Король хлеба, миллиардер Ундерлип, безучастен.
Пусть! Все пыль. Все сон - миллиарды, сила, власть и даже сама жизнь.
Яхта взлетает на гребень волны. Волна относит яхту от берега, точно делает разбег. И с размаху швыряет ее на острые зубы скал. И все… Мачта плывет и скачет на волнах. Что-то черное подпрыгивает у мачты. Цилиндр мистера Ундерлипа, короля хлеба. Цилиндр пережил короля.
Михаил Фоменко
Двести лет спустя: Утопия Я. Окунева
Современники отзывались о Якове Марковиче Окуневе не иначе как уничижительно. "Незадачливый… Маленький, щуплый, без зубов… всегда в поисках денег, всегда кем-то обиженный… Партиец, лишенный какой-либо твердости… Он устраивал у себя литературные вечеринки, затеял издание альманаха "Новые берега"" - пишет Ю. Слезкин. "Кроткий, щуплый человечек, панически трусивший даже своей энергичной супруги" - подхватывает Н. Карпов.
Наиболее полно биографию Окунева проследил литературовед и библиограф И. Халымбаджа. Из его заметок и других источников мы узнаем, что Окунев (его настоящая фамилия - Окунь) родился 6 (18) февраля 1882 г. в бессарабском городе Бендеры, в еврейской семье; отец - мелкий торговец. Окунев учился на историко-филологическом факультете Новороссийского университета в Одессе и с 1903 г. начал публиковать в периодике стихи и рассказы. Тем же годом датируется начало его участия в революционной деятельности, которое привело к исключению из университета, неоднократным арестам и высылке.
В "годы реакции" Окунев отходит от революционной борьбы и посвящает себя литературе. В 1914 г. в петербургском издательстве "Прометей" выходит его первая книга - сборник рассказов "Каменное иго". Книга, по мнению Л. Бать, автора неприязненной заметки об Окуневе в "Литературной энциклопедии" (1929–1939), "пестра стилистически и тематически. Неоформленные революционные настроения перемежаются декадентскими мотивами и безыдейным бытовизмом".
С началом Первой мировой войны… Что же произошло с началом войны? Как пишет в скандально-"разоблачительных" мемуарах "В литературном болоте" (ок. 1939) Н. Карпов - вошедший, кстати, в историю советской фантастики благодаря непритязательному роману "Лучи смерти" (1925) - "мой приятель, писатель Яков Окунев, попал в военный госпиталь на испытание на предмет годности к военной службе, побеседовал там с первыми ранеными, благополучно вышел из госпиталя с белым билетом, освобождавшим от военной службы и, набравшись впечатлений, начал "шпарить" в газете "Биржевые ведомости" очерки с подзаголовком "Из впечатлений участника". Если бы читатели вздумали по этим очеркам представить себе личность самого очеркиста, в их воображении встал бы свирепый, широкоплечий великан, нанизывавший на штык сразу по паре немцев".
Биографы указывают, напротив, что Окунев был призван в армию, участвовал в Галицийском походе 1914 г. и был награжден Георгиевским крестом. В 1915 г. в Петрограде вышли книги военных очерков "На передовых позициях: боевые впечатления" и "Воинская страда" ("реалистический показ ужасов войны сдобрен слащавым восхвалением героического патриотизма русской армии", комментирует Л. Бать).
Во время Февральской революции Окунев, по сведениям И. Халымбаджи, "участвует в перестрелках с городовыми", в июле 1917 г. вступает в РСДРП, кочует по фронтам Гражданской войны в качестве редактора газет при политотделах и затем оседает в Москве, где работает в газетах "Правда" и "Московский рабочий".
В 1923 г. Окунев публикует научно-фантастический роман "Грядущий мир". Роман, изданный с великолепными иллюстрациями Н. Акимова, остался наиболее заметным произведением писателя. Очевидно, сознавал это и Окунев и потому бесконечно варьировал темы и фабульные повороты романа - таковы книги "Парижская коммуна" (1923), "Газ профессора Морана" (1926), "Завтрашний день" (Москва, 1924) и "Катастрофа" (1927). В числе прочих фантастических произведений Окунева - рассказы "Лучи доктора Грааля" (1923) и "Петля" (в книжном издании "Золотая петля", 19251926) и повесть "Суховей" (1930).
Счастливо начавшийся 1923 год печально закончился для Окунева - он был исключен из партии "за нарушение партийной дисциплины" и навсегда остался с пятном в биографии. Не помогли и романы "Грань" (1928) с описанием "идейного банкротства меньшевизма" (Бать) и подпольной борьбы накануне революции 1905 г., "Черная кровь" (1928) и "Святые вредители" (1929).
Окунев, от греха подальше, решает сменить тематику - в 19291931 гг. он публикует политико-этнографические книги "По Китайкой восточной дороге", "В стране генералов и кули", "Там, где восходит солнце", "Зея" и "Кочевая республика", работает корреспондентом начавшей выходить летом 1931 г. газеты "За пищевую индустрию" (ежедневный орган Наркомснаба СССР и ЦК профсоюзов мясо-рыбо-консервной и маслобойной, мукомольно-хлебопекарной и кондитерской, сахарной и сельпромовской промышленности). Новая должность стала для Окунева роковой: редакция направила писателя в командировку в Караганду, по дороге он заразился сыпным тифом и умер в больнице Петропавловска 27 декабря 1932 г.
Статейка в "Литературной энциклопедии" заклеймила Окунева как "типичного представителя той мелкобуржуазной интеллигенции, к-рая, примыкая к пролетарскому революционному движению в период его подъема, не срастается с ним органически, а остается невыдержанной и неустойчивой в своей революционности. Для О. характерны скачки от одного жанра к другому, поверхностная их разработка, отсутствие единой идейной направленности и эклектизм лит-ых влияний <…> он создал ряд идейно расплывчатых произведений на случайные темы". До 1980-х г. произведедения Я. Окунева не переиздавались.
* * *
Роман "Грядущий мир", считая с иллюстрациями, занимает в первом издании 1923 г. менее 70 книжных страниц. И все же ни один уважающий себя историк и исследователь советской научной фантастики не прошел мимо этой книги, а В. Ревич даже объявил ее первым советским утопическим романом ("Перекресток утопий: Судьбы фантастики на фоне судеб страны", 1998). Правда, критику пришлось тут же оправдываться за "присвоение утопии Окунева номера один" и упоминать о "Стране Гонгури" В. Итина (1920), а также особняком рассматривать вышедшее в том же году "Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии" Ив. Кремнева (А. Чаянова). Между прочим, и у этого, и у других исследователей фантастики в контексте утопий двадцатых годов не упоминается такое значительное произведение, как поэма В. Хлебникова "Ладомир" (1920) - поэзию "фантастоведы", за редкими исключениями наподобие В. Маяковского или В. Брюсова, традиционно игнорируют.
Наиболее толерантно отнеслись к роману Окунева Г. Прашкевич ("Адское пламя", 2007) и И. Халымбаджа ("Яков Окунь: Что мы о нем знаем?", 1992). Первый, чуть устрашенный образами Всемирного города и одинаково одетых мужчин и женщин - тот же, если на то пошло, современный "унисекс" - похвалил роман за динамично-гротескный стиль и увидел в нем изображение "поистине счастливого мира, единственной реальной драмой которого остается драма неразделенной любви. Впрочем, и такое несчастье - лечится". Стиль Окунева хвалит и И. Халымбаджа: "Написанные в броских "экспрессионистских" тонах (в "Грядущем мире" вмонтированные в текст газетные объявления набраны крупными буквами), с энергичным диалогом, без попыток психологической детализации характеров, в авантюрном ключе, книги Окунева читаются легко". Но для Халымбаджи роман - своего рода документ эпохи, отразивший бытовавшие в 20-е годы представления о скорой Мировой революции, ее неизбежности и неотвратимости, о грядущей Коммуне в виде единого разросшегося города, покрывшего улицами всю сушу и "съевшего" всю природу, у которой силой вырваны все "милости".
Впрочем, Я. Окунь трезво понимал, что сделать абсолютно всех счастливыми неспособно никакое будущее общество.
Ныне книги Якова Окуня воспринимаются скорее как народно-плакатные. Одноцветные образы друзей и врагов, - без полутонов; скупой телеграфный стиль и твердая вера в близость (завтра, ну, в крайнем случав, послезавтра) Мировой революции - во всем видны искаженные пропорции, смещенные и деформированные жизненные реалии. Желаемое сплошь и рядом выдается за действительность.
В известной статье "Фантастика, рожденная революцией" (1966) Р. Нудельман отмечает, что Окунев "сумел предугадать широкое развитие телевидения, биоэлектрического управления механизмами, гипнотического обучения во сне; он развивал гипотезу идеографии, то есть прямого мысленного общения; интересны высказанные им мысли о воспитании детей в обществе будущего, близкие к тем, которые в "Туманности Андромеды" развивает И. Ефремов". Однако, психология людей будущего в изображении Окунева бедна, изобилует странными пережитками агрессивности, тщеславия (таков образ гениального ученого XXII столетия), а общественно-социальные понятия не выходят за рамки вульгарно понятого "коллективизма": человек счастлив, когда ощущает себя нужным винтиком общественного механизма. Несомненно, именно с этой массовой безликостью связаны и представления об отмирании семьи, половых различий и т. д.; в общем это дает цельную картину будущего как гигантской, четко организованной и технически могущественной, но обесчеловеченной коммуны. В ней нет главного - расцвета человеческой личности.
Мельком посетовал на "механический рационализм, который порой заслоняет человека" и А. Бритиков ("Русский советский научно-фантастический роман", 1970). Но больше всего досталось Окуневу от В. Ревича, который в своей книге посвятил немало страниц "Грядущему миру". Здесь и насилие над природой, и "бездуховная научная гонка", и отсутствие "серьезной попытки рассказать хотя бы о науке будущего" и внутреннем мире людей XXII века, и тоскливый казарменный коммунизм, и "вивисекция души", и "вихри любовных кадрилей", и полная эрозия семейных и родственных привязанностей, и пропаганда насилия над природой, и воспевание "восторженно мычащего стада".
Вихри обвинений доходят до абсурда - Окуневу ставится в вину… "скрытое" цитирование Маркса. Словно коммунистическая утопия не есть, по определению, самая что ни на есть открытая цитация классиков марксизма! Зато другую скрытую "цитату" фантастовед не приметил - мечущийся в поисках рабочей кепки миллиардер Ундерлип в повести "Катастрофа", этот Ундерлип, завернутый в шарф - пародирует знаменитый маскарад тов. В. И. Ленина, принявшего в 1917 г. облик "рабочего К. П. Иванова".
* * *
Так что же - не все так просто? Как видно, не все.
Многие упреки в адрес Окунева верны и правомерны (хотя в публицистическом накале некоторые авторы забывают, что роман действительно является "документом эпохи" и отразил все ее искаженные представления о подобающем человеку будущем). Утопия Окунева, безусловно, тоталитарна. От наготы детей, подростков и их наставников до "идеографов" и одинаковых одежд взрослых - во всем воплощен идеал тотального единообразия и прозрачности. Общество Окунева еще страшнее, чем кажется: изнаночная сторона этого счастливого нового мира - радикальная евгеника ("безнадежно больных - идиотов, физических уродов - мы умерщвляем в младенчестве безболезненным способом") и карательная психиатрия будущего советского образца. "Только больные люди", объясняет ученый Стерн, не чувствуют потребности стать частью общественного механизма, и тогда - "мы их лечим…"
Да, Окунев честно воплотил в литературу большевистскую утопию. А воплотив, утопии испугался. Даже В. Ревич вынужден признать, что писатель "остался недоволен им же сочиненными порядками" и испытывал "известные сомнения в совершенстве придуманного им механизма". Свидетельство тому - не одна лишь беседа Евгении Моран со Стерном и "неудобные" вопросы девушки о воспитании детей и превращенных в "силовые единицы" людях. Роман последовательно воспевает отличие.
Отличен от других гениальный изобретатель Лессли. Отличаются от других Евгения и Викентьев. Причем эти "волосатые существа с грубыми, топорными линиями лица", восставшие от двухвекового сна, как выясняется, превосходят и красотой, и богатством внутреннего мира физически и духовно совершенных людей XXII века. "Женщины вашей эпохи красивы" - говорит Евгении Лессли, предпочитающий женственную мягкость и сострадание гостьи из прошлого энергичности и самостоятельности безликих современниц. В финале романа Окунев выдает себя: эти страницы читаются не как триумф утопии, а как написанная задолго до Орвелла, орвелловская по существу история "сдачи и гибели русского интеллигента". Выбора у Викентьева нет - его прошлое умерло.
* * *
Впрочем, все достоинства и изъяны утопии почти столетней давности сегодня для нас очевидны. Неочевиден другой любопытный момент, который остался незамеченным фантастоведами. Самые проницательные из них бегло отмечали сходство утопии Окунева с "эрой Великого Кольца" в "Туманности Андромеды" И. Ефремова. Дело не только в поверхностном или глубинном родстве утопий как таковых и общих приемах жанра: Окунев, наряду с А. Толстым, создал прототипический роман советской фантастики. Две сюжетных линии романа предвосхитили два ее магистральных направления - утопическое и революционно-героическое. Прошло совсем немного времени, и находки Окунева (а также, конечно, А. Малышкина, автора "Падения Даира"), принялись тиражировать С. Буданцев ("Эскадрилья всемирной коммуны", 1925), П. Н. Г. ("Стальной замок", 1928) и другие авторы; особое значение имело для них описание воздушного налета советской авиаэскадрильи на Париж, повторенное Окуневым и в повести "Катастрофа".
Литература "последнего и решительного" боя мировой Коммуны и мирового Капитала просуществовала недолго. Тем временем разошлись по чужим текстам и другие элементы романа: М. Булгаков в "Собачьем сердце", видимо, частично опирался на эпизод усыпления Викентьева, А. Толстой в "Гиперболоиде инженера Гарина" воспроизвел блуждающую по морям окуневскую яхту "Грядущего мира" и ее крушение у неведомых скал, изображенное в "Катастрофе" (должно быть, "красный граф", чьи герои чудом спаслись, ехидно посмеивался: "Э-эх, батенька - не догадались выбросить всю вашу теплую компанию на необитаемый остров…"). Фантастический идеограф, названный "идеовизором", появляется в "Гулливере у арийцев"(1936) Д. Штерна, писавшего под псевдоним "Георг Борн". Черты утопического общества взяли у Окунева и Ефремов, и братья Стругацкие: и в "мире Кольца", и в так называемом "мире Полудня" практикуется коллективное воспитание, юное поколение взрастает в интернатах, семейные и родственные связи нивелированы, труд и познание - пусть и без поющих толп под алыми знаменами - провозглашены смыслом бытия. Сам же роман Окунева, оказавший такое существенное влияние на советскую фантастику - оказался прочно, но не безнадежно забыт.
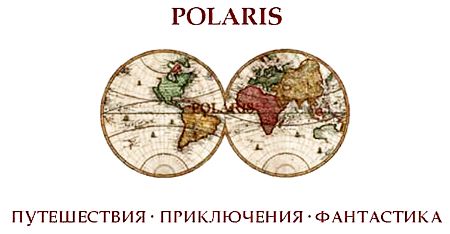
Примечания
Тексты произведений Я. Окунева публикуются с исправлением очевидных опечаток и некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. На фронтисписе воспроизведена обл. книги "Грядущий мир" раб. Н. Акимова.
Грядущий мир: 1923–2123
Впервые: Пг., изд. "Третья стража" для изд. "Прибой", 1923.
Приводим редакционные либо авторские примечания к роману в этом издании:
С. 8. Анабиоз… Анабиоз - оживление животных, замороженных или засушенных на время.
С. 49. …кессонах - Металлический ящик, открытый снизу, который опускается на дно для строительных работ.
С. 49. …озон - Газ, получающийся от электризирования водорода. Уничтожает вредные испарения и микробы в воздухе.
С. 50. …внутри-атомная энергия - Все тела состоят из мельчайших частиц - атомов, обладающих силой взаимного притяжения и отталкивания. Эта сила и есть внутри-атомная энергия.
С. 52. …электронов - Мельчайшие частицы вещества - атомы состоят из частиц, называемых электронами.
С. 60. …дураллюминия - Дураллюминий - металлический сплав - легче и тверже алюминия.
С. 66. …эмоция - Эмоция - чувствование, настроение.
С. 66. …Юнгфрау - Вершина Бернских Альп в Швейцарии, около 4 верст вышины.
С. 67. …Давос - Давос - горная местность в Швейцарии с исключительно здоровым климатом для легочных больных.
С. 80. …пневматической почты - Пневматическая почта пересылает корреспонденцию напором сжатого воздуха по трубам.
Катастрофа
Впервые: М.-Л., "Молодая гвардия", 1927.
1
Все приведенные опыты оживления не представляют собой вымысла автора (Прим. ред. оригинального изд.).
2
Халымбаджа И. Яков Окунь: Что мы о нем знаем? // Тигина. 1992. № 3 (43), 31 янв.; Харламов Т. (Халымбаджа И.). Грядущий мир Я. Окунева: Заметки архивариуса // Наука Урала. 1984. 5 июля.