* * *
Круглые столы были овальными даже в Научно-исследовательском институте. Эта мысль первой пришла Опарне в голову, когда она добралась до холла второго этажа, к началу ежемесячного Круглого стола. Последние два она пропустила, это был ее первый. Посередине залы размещался массивный продолговатый стол, за которым возбужденными концентрическими кругами расселись мужчины. Некоторые болтали стоя. Дружелюбная прислуга разносила печенье и чай. Царили премногое веселье и толкотня. Как сперма под микроскопом. Большинство ученых были в легких рубашках навыпуск и свободных удобных брюках. Строгие мужчины, осведомленные о своей строгости. Те, что помоложе, – в джинсах. Вопреки очевидной неформальности происходящего, вольным рубашкам, буре седых волос и кожаным сандалиям именно они главенствовали в этой зале, они здесь – на особом положении, в отличие от тихого внешнего круга секретарей, насупленных и неразговорчивых, как заветренное печенье. В эпицентре деликатного смятения находилась несокрушимая фигура Арвинда Ачарьи. Мужчины по обеим сторонам от него повернулись друг к дружке и оживленно разговаривали. И вновь он был валуном в потоке. Все бурление огибало его.
Опарна вошла, и проросла тишина. Она нервно пробралась сквозь внешние круги. Седые лысеющие головы одна за другой повернулись. Где-то по краям болтались две секретарши, но Опарна чувствовала, что она единственная женщина в зале, поскольку понимала, что и мужчины так считают. За продолговатым столом строго напротив Ачарьи сидел Джана Намбодри в облаке щеголеватых седых волос, в рубашке с коротким рукавом, опрятно заправленной в вельветовые брюки. Он встал и церемонным взмахом руки предложил ей место во втором ряду. Она осторожно протиснулась к тому стулу. Пожилые мужчины на ее пути, пропуская ее, поджимали ноги. Кое-кто неловко уворачивался от ее зада, почти чиркавшего по их усталым лицам. Некоторые сделали вид, что продолжают общаться, поглядывая меж тем на ее тыл с почтительной невозмутимостью.
– Она бенгалка? – попытался шепнуть кто-то, однако в такой глубокой тишине это услышали все. (Говоривший, возможно, сам был бенгалец.) В воздухе повисли негромкие смешки.
– Спокон веку, – сказал Намбодри громко, – единственным наказанием бенгальцу была бенгалка. – По зале прокатился смех. – Мы позабыли упомянуть это раньше, господа: вот наше первое женское дарование, – объявил Намбодри.
Один мужчина захлопал. Одинокие хлопки чуть было не умерли до срока, но тут присоединились другие – поддержать комплимент. Аплодисменты растворились в долгой уютной тишине.
И вот так он и продолжался, этот вечер, – во вдохновенной кутерьме, уступавшей молчанию, а молчание, в свою очередь, нарушалось глубокими вопросами о вселен ной, которые отдохновенно перетекали в смех. Такова была давняя традиция у местных ученых – в первую пятницу каждого месяца они встречались потрепаться.
Айян Мани озирал залу, стоя спиной к стене, как это уже бывало не раз, и пытался понять, как так вышло, что истина теперь в руках у этих вот невозможных мужчин. Сейчас они обсуждали идеальный способ резать торты и пришли к выводу, что треугольными кусками, как это делают все, – неэффективно. Затем они перемыли кости какому-то отсутствующему французскому ученому: он заявил, что человек никогда не сможет измыслить способ предсказания самого большого простого числа. А потом взялись гадать, что именно обнаружат при помощи женевского Большого адронного коллайдера.
Айян не выносил этого. Бесконечный поиск истины. В века попроще мудрые бродячие монахи, метафорические дзэн-созерцатели, сыны божьи, отшельники, превращавшиеся в муравейники, не стали бы решительно и отчетливо выражать в рукописи, какую взялась бы печатать "Таймс оф Индиа", в чем причина существования жизни или почему есть нечто, а не ничего. Они же могли прямо взять и сказать это, одним внятным абзацем, и раз и навсегда разгадать эту тайну. Но нет. Они говорили притчами. А теперь истина в руках вот этих мужчин, в этой зале, и они еще менее понятны, чем божьи люди. Айян не сомневался, что никакой такой истины нет. Есть лишь поиск ее, и этот поиск продолжится вечно. Форма занятости такая. "Чем бы эти люди ни занимались, все оттого, что им делать больше нечего, – сказал он как-то раз Одже Мани. – Эйнштейн возился с Относительностью. А ты полы моешь дважды в день".
Круглый стол начался с обсуждения судьбы Плутона. Опарна Гошмаулик внимательно слушала каждое слово. Многое из сказанного она не понимала, но меланхолию, навеянную ее подвальным кабинетом, сдуло. Ей всегда нравилось общество широко осведомленных мужчин. Она попыталась понять, почему они говорят о Плутоне с такой серьезностью. Плутон ей нравился. Из услышанных доводов она уразумела, что на недавней научной выставке в Америке эту планету выкинули из модели Солнечной системы. Что вызвало – похоже, не впервые – яростную дискуссию, считать ли Плутон планетой или же мелким представителем пояса Койпера.
– Плутон слишком мелок, слишком мелок. Он поместился бы на территории Америки. Вот какой он мелкий, – ядовито произнес один.
Даже тут, злорадно сказала она про себя, всё – своего рода пенис.
Намбодри, повернувшись к ней и осеняя ее взглядом пылкого наставника, внезапно спросил:
– А вы что думаете, Опарна?
Она сделала вид, что смутилась, поскольку собралась ответить, что недостаточно компетентна для выражения мнения. Она же астробиолог, в конце концов, а не астроном. Опарна знала, что такое смирение мужчинам понравится.
Она сказала:
– Если Плутона не будет, я, пожалуй, огорчусь. Я же Скорпион. – И вновь из-за нее воцарилась тишина. Опарна неловко пояснила: – Скорпионом управляют Марс и Плутон.
– Стало быть, она Скорпион. Как я, – сказал кто-то негромко, надеясь запустить волну смеха, но этого почему-то не случилось.
– И каковы же свойства Скорпиона? – послышался презрительный голос, а затем смешок. Поначалу смешок этот был вполне бодр, но вскоре увял до стыдливого хихиканья – его источник осознал, что поддержки не имеет.
– Пылкий, сильный, уверенный, – сказал Намбодри, глядя на Опарну, – и страстный. – Чахлый смех быстро вымер. Опарна осилила улыбку и пробормотала:
– Астрология – не наука, знаете ли.
– Потому она и не оспаривается, – отозвался Намбодри.
Обсуждение постепенно добралось до еще одной бурной темы: квоты для социально незащищенных каст в колледжах. Бытовало опасение, что Научно-исследовательский институт попросят выделить места для низших каст – и среди сотрудников, и на исследовательские должности. Общее настроение в зале сделалось сумрачным. Кое-кто посреди обсуждения политической агрессивности низших каст бросал осторожные взгляды на секретарей и приблудившуюся прислугу. Айян взирал на все это бесстрастно. Он слышал такие споры и прежде – и знал, к какому выводу все придут. Брамины благородно скажут: "Необходимо исправить ошибки прошлого, необходимо создать возможности, – а следом добавят: – Но пренебрегать заслугами нельзя". Он вообразил, как Намбодри моет общий туалет в чоулах и приговаривает, обращаясь к своему сыну: "Но пренебрегать заслугами нельзя". Лютый хохот отдался эхом у него в голове, но на лице ничто не проявилось – оно лишь едва заметно дернулось.
– Глупо думать, что все мы – привилегированного происхождения. Я вот из простой семьи, – проговорил Намбодри тихо, с видом добродушного самосозерцания. (Айян мог сам произнести слова, которые того и гляди прозвучат, и ему бы это удалось почти безошибочно.) – В школу ходил пять миль пешком. Помню день, когда мы голодали, потому что отец попал в бурю и три дня не мог добраться домой. Я все это пережил и смог выбиться в верхи индийской науки – не потому, что я брамин, а потому что очень много трудился. И извлек пользу из своего коэффициента интеллекта 140.
Не сознавая, Намбодри глянул на Опарну – слушает ли?
– Думаю, это глупо – считать нас, в смысле браминов, такими уж привилегированными. Между прочим, самым богатым мальчиком у нас в классе был далит, его отец владел бизнесом грузоперевозок. У них был большой дом, автомобиль и все такое. Мне, да, стыдно за то, что натворили наши предки…
И тут, словно до этого была полная тишина, воздух пронзил голос Арвинда Ачарьи.
– У тебя коэффициент интеллекта 140? – переспросил он. Раздался нервный смех, потому что никто не был уверен, есть ли у Ачарьи чувство юмора. Намбодри с благодушной улыбкой кивнул. Ачарья вновь умолк.
Айян терпеливо наблюдал, как ученые обсуждают прочие дела. Когда все темы себя исчерпали, снизошла задумчивая тишина. Ачарья собрался было подняться с места, но тут Намбодри сказал:
– Есть еще кое-что, Арвинд. – Произнес это он так, что у Айяна забилось сердце. Он знал, что вот сейчас все сделается неприятным. Наконец-то.
Намбодри обвел взглядом залу и вновь упер его в Ачарью.
– Шаровая миссия – не единственная важная задача Института и не единственное, что тут должно происходить, – сказал Намбодри. Голос его поначалу дрожал, но постепенно набрал уверенности.
Опарна почувствовала удары холодных взглядов. Ей захотелось спрятаться. Тишина в зале сгустилась.
– Есть и другие эксперименты, и прочее, чем люди желают заниматься, – продолжил Намбодри. – Многие из здесь присутствующих, особенно радиоастрономы, обеспокоены твоим сопротивлением поиску внеземного разума. Ты постоянно запрещаешь применять Исполинское ухо к исследованию развитых цивилизаций. Ты публично объявил SETI вне науки. Многие из нас здесь считают, что ты ведешь себя авторитарно и несправедливо. Я хочу выложить это недовольство в открытую.
– Ты и выложил, – ответил Ачарья. – А теперь у меня дела поинтереснее.
Сделав решительное лицо, Намбодри отозвался:
– Я согласен, что поиск разумной жизни нынче несколько в моде, но важно, чтобы такие исследования производились.
– Нет! – возопил Ачарья. – Ты посмотри, сколько денег вбухивается в подобное дерьмо. Миллионы на какой-нибудь планетоход, который должен вроде как искать воду на Марсе. Скажи мне, зачем нам искать воду в космосе? С чего бы всей жизни во вселенной зависеть от воды? Вон тамилы – и те могут жить без воды. Мы тратим многие миллионы на подобные идиотские миссии. Зато на разработку способа предсказывать землетрясения у нас средств не хватает. Потому что землетрясения не в моде.
Он встал и крутнул брюки на талии. Остальные тоже принялись подниматься. Все взгляды устремились на Намбодри – тот по-прежнему сидел. Очевидно, еще не всё.
– Арвинд, – сказал он, – нам ничего не остается – будем привлекать к решению этого вопроса Министерство.
На сей раз наступила тишина, не похожая на все предыдущие. Айян изнемогал от восторга. Вот это потеха. Над впадавшими в раж мужчинами Опарна обыкновенно смеялась, а тут почувствовала озноб. Вокруг овального стола установилась неподвижность назревающего бунта. Его можно было пресечь лишь молчанием, и она молилась, чтобы Ачарья помалкивал.
На его лице не отразилось ничего. Он медленно обошел стол, добрался до Намбодри, а затем – словно передумал нападать – обошел старого друга сзади и вернулся на свое место.
– Чего это ты ходишь по орбите? – спросил Намбодри.
Айян уловил оскорбительность этой реплики. Это было еще одной непостижимой тонкостью Института. Обычно по орбите важных небесных тел вроде Земли летали тела менее значимые – Луна, допустим. Ачарья покинул залу без единого слова.
Часть вторая
Закадычный враг Большого взрыва
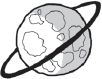
В то утро Арвинд Ачарья упивался безотчетной радостью, пытаясь решить старую неподатливую задачу. Непрерывно ли движение Времени, как прямая, или же Время движется малюсенькими рывками – пунктиром? Он стоял на узком балконе в девяти этажах над землей и глазел на Аравийское море. Летний воздух замер. К Ачарье по деревянному поручню бочком запрыгала ворона.
На Ачарье был синий тренировочный костюм с толстой белой галочкой на бедре, словно Ачарья изъявил некое одобрение. Этот костюм ему прислала дочка из Калифорнии – хотела, чтобы он совершал по утрам прогулки. Вещи, прибывавшие DHL, он теперь неохотно признавал как знаки любви. В иной день, когда не размышлял над сложными вопросами, он с нежностью вспоминал Шрути – маленькой девочкой, которая однажды, далеким вечером, встревоженно глянула на него снизу вверх и спросила, важна ли математика для жизни. "Нет", – соврал он. Было бы, наверное, здорово видеть ее чаще, чем когда она сама решала приехать. Вероятно, он каждое утро стоял в этом тренировочном костюме не для того, чтобы поддаться унижению физкультурой, а потому что к этому костюму прикасалась его дочка, потому что на почтовой упаковке было написано его имя – ее изящным почерком. И все же он никогда по ней не тосковал. Успех старика – в отсутствии тяги к обществу.
Солнце делалось все свирепее. Глаза Ачарьи, цвета светлого черного чая, чуть смягчились. Он даже улыбнулся. От волнения, какое сообщала ему задача Времени, он вцепился в поручень и принялся слегка раскачиваться. И тут стальной стаканчик с ни на что не похожим ароматом мадрасского кофе из кофеварки ткнулся ему в грудь. Изумление его оказалось столь картинным, что даже ворона спорхнула. Линии абстрактной геометрии и физики осыпались. Остался лишь вопрос, который пробудил его сегодня на рассвете, – как многими утрами прежде.
Его жена – сорок два года в браке, ее имя – навеки пароль его электронной почты, – одной рукой спокойно подавала ему стаканчик, а другой поливала из чашки умиравший вьюн. Она выглядела высокой и стройной даже в безразмерной футболке и пижамных штанах. Чистая кожа туго обтягивала ее костлявое лицо, а большие глаза танцовщицы мужчины по ошибке воспринимали как любознательные; о таких женщинах девушки говорят: "В молодости наверняка была красавицей". Крашеные волосы коротко стрижены и редеют. Когда-то они были густы и струились, и она стягивала их кверху с царственным боевым высокомерием. Двигалась она гладко и изящно, словно в суставах у нее был текучий гель. И не менее женственно она еще раз пихнула его локтем и повелела без единого слова забрать у нее стальной стаканчик, не заботясь о том, что этим только что отсрочила один из ответов, какие наука ждала от того избранного, кого могла спросить. Ачарья посмотрел на жену с отвращением, но она с утра не надела очки.
Лаванья Ачарья зевнула, показала на тряпку для пыли, что висела на проволоке над ними, и попросила ее достать. Есть польза от его роста. Но когда ее мать впервые встретила Ачарью – тарелкой влажных фруктов, – она сказала с грустным смешком: "Этот мальчик выше статуи Ганди". Ачарья сдернул тряпку с проволоки и отдал жене, бормоча себе под нос, что нет ему покоя в собственном доме. После чего снова вперился в море.
Жена оглядела его с нежностью. Просто как футбольный тренер – и так же неистов.
– Ты каждое утро надеваешь вот это и просто стоишь. Сходил бы прогулялся, а? – заметила она.
Его лицо дернулось. Он не обернулся.
– Да, вот еще что, не говорила тебе, – сказала она, вдруг оживившись. – Помнишь Лоло? У нее муж умер ночью. Инфаркт.
Ачарья отставил задачу Времени. Новости о смерти – о любой смерти – его нынче волновали. Особенно вдовство подруг и двоюродных сестер жены. Эти женщины после ухода мужей становились здоровее. Их скорбные глаза внезапно наполнялись жизнью, а кожа начинала сиять.
Лаванья вновь показала на потолок. На сей раз она просила его оборвать свисающую поросль. Вечно она вот это. Иногда он жаловался, что жена, как только его увидит, сразу выдумывает, что бы ей такого достать сверху. Она же сама высокая, тем более для тамильской женщины. Пять футов девять дюймов. Когда ей было двенадцать, мать заставляла ее каждый день по часу бродить по безмолвному лабиринту их дома в Шиваганге с деревянным сундуком на голове: семейный врач сказал, что такое упражнение сдержит пугающую прыть ее роста. Но к восемнадцати годам она доросла до неженибельных высот. Элита Шиваганги взирала на нее с печалью, поскольку высокие мальчики-брамины в те времена попадались редко. Дылды имелись лишь среди бездельников-британцев, из оставшихся, – преимущественно двужильные белые старики, сожительствовавшие, по слухам, с девицами-служанками, или же молодые англо-индийцы, учившиеся жутко и к тому же, что еще сквернее, преуспевавшие в спорте. Вся семья Лаваньи куда вернее наелась бы крысиного яда "Сентил", нежели отдала ее в жены за белого или за "кофе", как называли тогда англо-индийцев. Но старейшины зря беспокоились. Как-то им все же удалось найти двадцатидвухлетнего юношу из очень хорошей семьи, тоже бракованного по росту. Он закончил Индийский технологический институт, но все еще изучал что-то малопонятное в Аннамалайском университете в Мадрасе. Что бы он там ни изучал, государственной службы ему это не сулило. Однако недуг Лаваньи вынудил их закрыть глаза на недостатки Арвинда Ачарьи. То был брак, осененный не легкомыслием любви и да же не наивным ожиданием ее, а более прочной связью – сходной инвалидностью.
Ачарью отвлекло возбуждение предстоящей Шаровой миссии. Он взглянул в ясное синее небо. Ачарья знал, что где-то там – вообще-то не очень высоко – тихонько спускаются на Землю миллионы микроскопических пришельцев. Он собирался их найти. Ачарья вновь уставился в небо, утро жгло ему глаза, и он вновь соскальзывал в приятный транс. И тут вдруг почувствовал, как его ноги касается что-то холодное. Он чуть не подпрыгнул. Горничная, похожая на лягушку-великана, сидя на корточках, мыла пол. Она глянула на него снизу вверх со страхом и подозрением. Как всегда. В тот день, когда ее взяли в дом, ее потрясли звуки смерти из его комнаты. То был голос Лучано Паваротти.
Было время, когда Ачарья ежеутренне слушал ангельский тенор. В неукротимом стремлении раскрыть все оставшиеся во вселенной тайны Паваротти был его незримым соучастником. Но Лаванья решила запретить утреннюю музыку, узнав, что эти звуки пугают не только горничную, но и кухарку. Он воспротивился и даже стал включать Паваротти громче, пока Лаванья не доказала: в те дни, когда он включал Лучано, у дос был ошарашенный вид и они выходили непропеченные.
– Женщины – чувствительные, – сказала она ему, – а они готовят тебе еду.
Горничная терла пол у него под ногами – и бросила на него еще один взгляд. Она смотрела на него так, что Ачарья не сомневался: она подозревала, что Паваротти – он сам.
– Подвинься, – сказала Лаванья, – ей надо помыть. Он осторожно обогнул горничную, бормоча:
– В этом доме только и делают, что моют. – Затем отправился на кухню, не понимая, с какой целью. На мойке, сидя на корточках, возилась кухарка – она, крошка, не доставала до крана. Обернулась и глянула на него одним глазом. Все это вместе взятое было кошмарно. Уродство.
Ачарья сердито направился в спальню, оставленную Шрути. Теперь там складывали бесполезные подарки, которые молодежь все время шлет от своей идиотской благонамеренности – дескать, не забываем. Лаванья хранила все присланное и давала этим вещам вторую жизнь, раздаривая на свадьбах.