- Он! Он, Мишка. Вилами намахнулся. Да... Ну, выпили, а у меня в груди все жар, все сердце ноет, как про Мишку вспомню. А здеся Надежда выпила и за свою стару песню: "Вот, - говорит, - папаша, вы все копите, копите, а толку что? Какая жизня у вас? Один сырвант купили. И тот пустой". Я знаю, к чаму ета она. "Не твоя, - говорю, - забота. Сам знаю, что куплять". А она взвилась: "Ета как же не моя? Вот у нас сын, Андрюшка, внучок ваш. А вы хош раз чего ему прислали? Ведь все свое: и мясо и молочко. А яблоки? Для детя малого жалеете". И Марья вякнула: "Внучку-то можно было б". Я на ее: "Цыц!" - и такая злоба к горлу подступила. Мало мене голодранцев всяких. Ишо свои. А Надежда така: как одно заладит - не отцепится. "Али хош раз денег дали внучку на костюмчик? Зарылись тута в свою серую жисть. - И Василия в бок - толк. - А ты чего молчишь, пентюх?" Ета на мужа-то! Василий себе стаканчик налил, выпил и говорит: "Верно она, батя, вам разъясняет". И за капустой вилкой. А миска вже пустая. Марья подхватилась: "Пойду в погреб, ишо принесу". Я ей вслед, чтоб из начатой кадки брала, а самому так мутырно, так мутырно, слов нету.
- А вы Василию не помогали?
- Иде такой закон, чтоб родители взрослым детям помогали? Пущай они нам помогают, вот что. Вырастили... Дале. Василий закусывает, а на меня не глядит - совестно. Я сгоряча и давай. "Села она тебе на шею, - говорю, - и погоняет. Дурак дураком. Блаженный. Ты какой есть? Какой ты есть? Знаешь? Теста ты одна. Что хош, то и лепи! - И слеза меня супротив желания прошибла. - То, - говорю, - со мной бы жил, хозяйству бы принял. А тобой баба помыкает". Надежда на меня аж с кулаками: "Что я ему, плоха, да? Плоха?" Кровью налилась, ровно свекла. А меня понесло уж: "Ты за отца и вступиться не можешь! Вон Мишка мене проходу не дает. Стар я с ым помериться. А ты? Невесту он у тебя увел - проглотил. И теперь... Нет чтоб окорот яму дать. Не сын ты мне, вот что!" - говорю.
Под окнами остановился председательский "газик". Иван Матвеевич осторожно вошел в комнату, сел за один из пустых столов. Лицо у него было землистое, осунувшееся; в руке он держал забрызганную дождем брезентовую накидку. Морковин тяжело, хмуро, ненавистно посмотрел на председателя и замолчал.
- Что было дальше?
- Что дале... Дале все и случилося. Марья ворочается из погреба: "Гриша! Там Мишка яблоки рвет. Меня погнал". Как-то мене сладко в нутрах изделалось, тошнота вроде. И жаром облило. "Вот, вот, - говорю. - Дождался? Ладно... Ладно. Я с ним..." Здесь Василий, правда, говорит: "Постой, я сам". И пошел из избы. Марья наперерез кинулась: "Прибьет он тебе, сынок!" Тольки я ее оттащил. "Не суйся, - говорю, - не твое бабье дело!" А самого так и бьет озноб. Уж не знаю, об чем они там толковали, что про меж ими вышло. Вертается скоро, сумной, водки себе налил, выпил. "Чаво там?" - спрашиваю. Он на меня не глядит, глаза в стол уставил. "Что, - говорит, - я из-за пары яблок с ним в драку полезу? Он подумает..." Рукой так махнул - и в угол. Меня ровно сила чужая подняла. "Жидкий за себя постоять! - кричу. - Ладно, я пойду, я..." Ишо какие-то слова кричу. Уж не помню... И побег из избы. На дворе дожжок маленький сеется. Я через сад, через огород - к яблонькам. Смотрю: точно, Мишка. Рвет яблоки, не спеша так, ровно свои. В карманы запихивает. Меня углядел и хош бы что - рвет. Подскочил я. И такая меня злость... Ко всему свету. Ну, душит, душит. "Мишка, - говорю, а самого трясет. - Мишка... Иди отсель. Не искушай..." А он с усмешкою: "Да будет тебе, Григорий Иванов. Твои, что ли, яблони?" "Мои, - говорю. - Мои! Я за ыми ходю". А он мене в лицо - смех: "Нет, не твои. Колхозные. Для всего обчества". И рвет все. "Мишка! Мишка!.. - говорю. И жар меня всего захолонул, мутно стало. - Уйди! Уйди! По добру прошу!" Не уходит! Спокойно так: "Надоел ты мне, Григорий Иванов. Не выводи из терпения". Тады я яво, верно, за грудки. А он: "Прочь руки!" И толконул. Еле на ногах я остался. Конешна, куда мене супротив яво. "Не уйду, - говорит. - Понял? Вот нарву яблок, тогда, пожалуйста, уйду". Враз мене так сотворилось... И не знаю, как обсказать. Сын сидит дома, за отца не встрянет. И вообче... Вообче... Один я во всем свете. И не упомню, как в избе оказался. К сундуку. Все из яво наземь. Он у меня на самом донушке лежал... С революции, считай, к яму не прикасался. Смотрю - на месте.
- Револьвер?
- Да. Он. Взял, курок поднял. Что-то мене бабы галдят, Василий - за плечи. А я и не помню. Ничаво не помню... Бегу, как в тумане. И вроде он, туман, розовый. Опять у яблонек. Дожж. Вот слышу, по листам он шибуршит. Я, правда, быстро так подумал: "Как бы сена преть не начала". И ишо скворец на ветке хвостом дергал. Мишка уж не рвет. Кругом прохаживается, какое покрупней выглядает. Потом меня заметил. И не на меня смотрит - на руку мою. Вижу, в лице меняется. Белый весь. Шепчет: "Ты что, Григорий Иванов, очумел?"... А я на яво иду, револьвер вроде поднял. Мишка пятится. Я иду на яво... Иду! И так мене... Радость, вот что! Тольки жаркая, всего захлестнула. Чаво-то кричу яму. Уж не упомню... Мишка шепчет: "Дядя Гриша..." - Верно, так и сказал: "Дядя Гриша. Да ты что? Ты что? Опомнись!.." Повернулся и побег. И тут я в спину яво растреклятую - раз! Все кричу чаво-то. И такая радость! Так и полыхает во мне. Мишка ровно споткнулси. И вкруг себя - волчком. Лицо яво увидел. И такая в ем... Ну, изумления. Тоды я - второй раз! Правда, сычас не помню, как крючок нажал. Мишка - наземь. Яблоки из карманов покатились. Потом на руках поднялси - и все. Дале не помню, куда себя определил. Очнулся в избе.
- Так вы не помните, как стреляли второй раз? - спросил я.
Лицо Морковина было мокрым от пота. Оно было радостным.
- Да вроде нет.
- Может быть, вы не хотели убивать Михаила? И стреляли так... В состоянии крайнего возбуждения, не помня, что делаете?
Фролов поднял на меня удивленные глаза.
Иван Матвеевич насторожился.
- Чаво ета? - Морковин усмехнулся, порывисто вздохнул. - "Не хотел..." Встал бы сычас Мишка, я бы яво сызнову перекрестил. И не дрогнул бы. - В его глазах родился далекий блеск. Медленно поднимались и опускались бескровные, тяжелые веки.
Скрипело перо Фролова по бумаге.
- Гражданин Морковин, после убийства Михаила вы спрятали револьвер?
- Да.
- Сейчас мы пойдем, и вы покажете место, где спрятали.
Он немного подумал, потом сказал:
- Ета можно. Пошли.
- Прочитайте и подпишите ваши показания, - сказал Фролов.
Морковин не стал читать. Подписал. Рука его дрожала.
- Позовите милиционеров, - сказал я Фролову.
30
Небо уже было все в неровных тучах, сыпался мелкий частый дождь, наполняя округу ровным шумом. Пахло мокрой землей, мокрыми деревьями.
У правления стояла молчаливая толпа. Никто не уходил, никто не обращал внимания на дождь. Все смотрели на нас, были сосредоточенны.
- Идите к машине, - сказал я Захарычу, - и подъезжайте ко двору Морковиных.
- Слушаюсь, - суетливо сказал Захарыч и неумело, приседая, побежал к синей милицейской машине.
Понятыми стали Иван Матвеевич и Зуев. Другие не согласились, не хотели. Я предлагал - на лицах появлялся испуг и плохо скрытая враждебность.
Мы пошли: впереди Морковин, за ним Семеныч, подтянутый, хмурый, с рукой на пустой кобуре. За ними понятые и мы с Фроловым.
Толпа молча пропустила нас, подождала немного и двинулась следом. Никто ничего не говорил. Было что-то недоброе, настораживающее в этом молчании.
Морковин шел медленно, ссутулившись, смотрел на небо, подставлял руку под дождь; шевелился его ввалившийся рот. Он был совсем спокоен.
Подошли к его двору. Семеныч вопросительно посмотрел на меня: какие, мол, распоряжения последуют?
- Где? - спросил я.
Куртка моя промокла, за ворот капала с волос теплая вода. Вдруг начал болеть живот. Просто невыносимо.
- Там, на краю огорода, - сказал Морковин.
Прошли мимо трех яблонь вдоль плетня, за которым в деревьях сада шумел дождь. Начался огород. Морковин шел между грядок картошки, потом свернул к зарослям огурцов, посмотрел на их ползучие желтые плети, покачал головой, сказал задумчиво:
- Кабы гниль не пошла. Последние огурцы-то остались.
- Ты зубы не заговаривай! - крикнул Семеныч. - Показывай, где схоронил.
Морковин медленно, с насмешкой посмотрел на него.
- Под плетнем, на конце картошки, иде подсолнухи сидять.
Черт знает что! Меня прямо скрючило.
- Вам нехорошо? - тихо спросил Фролов.
Я промолчал. Пройдет. Это у меня бывает тоже на нервной почве. Совсем психом стал.
Подошли к концу огорода. У плетня из трех березовых жердей покачивались отцветающие подсолнухи; в их белых сотах собрались алмазные шарики воды.
- Ищите, - сказал я Семенычу.
Ему помогал Фролов. Пока они искали, Морковин стоял к нам спиной - смотрел на изгиб реки, на поля за ней, на гряду старых ветел, которая начиналась за последним огородом. Все было в туманной пелене дождя, зыбко, неопределенно.
Искали долго.
- Нет ничего, - сердито и обиженно сказал Семеныч.
- Ты чего крутишь, Григорий? - спросил Иван Матвеевич. И добавил резко: - Нечего тянуть, понимаешь!
Зуев все прикуривал папироску и никак не мог: спички гасли в трясущихся от волнения руках.
Фролов сорвал мокрый лопух, вытер грязные, в земле руки.
- Ну? - терпеливо спросил он у Морковина.
- Запамятовал, - вяло сказал Морковин. - В саду схоронил. Под старой антоновкой.
Двинулись в сад. Шли гуськом, по узкой тропинке. Сандалии давно промокли, сырые штанины трепались по ногам. Боль в животе утихла, стала тупой и далекой. Я как-то странно не мог сосредоточиться, думать определенно.
В саду был влажный зеленый полумрак, тонко и грустно пахло яблоками. Морковин оживился: смотрел по сторонам, сломил несколько сухих веток с крыжовника, сказал:
- Сушь бы надо посрезать.
- Где твоя яблоня? - спросил Семеныч.
- Вона, - показал Морковин.
Яблоня была действительно старая, корявая, с ветками на подпорках по самой земле.
Семеныч и Фролов полезли под яблоню. На них обрушилась целая лавина капель. А Морковин под другой яблонькой стал подбирать падаль, быстро, спеша. Складывал яблоки в кучку, качал головой, шевелился его рот.
Вылезли Семеныч и Фролов.
- Ты что, издеваешься над нами?! - закричал Семеныч, подступая к Морковину.
Я остановил его:
- Тихо. Спокойней.
- Ладноть, - сказал Морковин и махнул рукой. Безнадежно так махнул. - В погребе он.
Мы прошли через сад. Уже выходя из него, Морковин поправил доску на заборе, за которым начиналась усадьба деда Матвея. Попали во двор. В окне избы метнулось лицо Марьи. За забором, на улице невнятно, тихо гудела толпа.
Морковин повел нас в сарай. Здесь было темно, сухо, пахло коровьим навозом.
- Сычас, - сказал он и щелкнул включателем.
Вспыхнули три лампочки. Тревожное чувство узнавания охватило меня - справа два бетонных стойла, видно, для коровы и теленка, автопоилка, только вода подается из железного бачка. Слева, тоже в бетонном закутке, мирно, сытно похрюкивал поросенок. У закутка выдвижной деревянный пол, две железные скобы; потянешь за них, и пол выдвигается. Дверь в стене. Морковин открыл ее, протянул руку в темноту, щелкнул включателем. Внизу вспыхнула лампочка, осветила бетонные ступени.
И я вспомнил рассказ Трофима Петровича Незванова о немецкой ферме.
- Там, под кадкой с огурцами, - сказал Морковин.
В погреб спустился Семеныч. Пока мы его ждали, Морковин быстро, торопясь, осматривал сарай; щупал стенки стойл, похлопал поросенка по боку, увидел, что не вычищен коровий навоз, и сокрушенно покачал головой, взял лопату, сгреб навоз к краю.
Вылез сияющий Семеныч.
- Вот! - сказал он и протянул мне револьвер.
Это был старый револьвер, весь в ржавчине. Но четко на рукоятке виднелись две буквы: "Р. П.". Витиеватые, кудрявые, с загогулинами.
Взял револьвер Фролов, повертел в руках, передал Зуеву.
- Он, - сказал Пантелей Федорович и громко проглотил слюну. - Он...
- Чего же ты нас водил? - радостно, возбужденно спросил Семеныч.
Морковин посмотрел на него...
- Не знаю. - С сожалением, пожалуй, сказал тихо: - Молодой ты, несмышленый. Вся моя жизня тута... можа, последний раз! - В голосе его прозвучало отчаяние.
Фролов стал писать акт об изъятии оружия, повернувшись к открытой двери. Опять скрипело перо по бумаге.
- Скажите... Скажите, Морковин, - спросил я. - Вы же понимали, что вас арестуют (он посмотрел на меня, и по его взгляду я почувствовал, что он не понимал этого). Почему же... вы не попытались скрыться?
Теперь он смотрел на меня с удивлением.
- А куда скрываться? Куда я со свово двора? Мне боле некуда. - И вдруг спросил с внезапным удивлением (или догадкой): - Что же меня теперя? К стенке?
- Не знаю, Григорий Иванович, - сказал я. - Меру наказания определит суд.
Стали подписывать акт. Все это сделали быстро, только у Зуева не получалось: он все встряхивал авторучку, пальцы его дрожали, не слушались; он хмурил густые брови, на которых висели капли дождя. Наконец расписался крупными, решительными буквами, сказал сокрушенно:
- Эх, Григорий, Григорий...
- Ведите к машине, - сказал я Семенычу.
Морковин засуетился, стал быстро, мелко ходить по сараю.
- Все? - спрашивал он. - Все, да?
Никто ему не ответил.
- Пошли. - Семеныч легонько толкнул Морковина в спину; молодое круглое лицо его вдруг стало виноватым.
И тогда Морковин опять успокоился, погасил везде свет и только после этого вышел из сарая.
Дождь совсем разошелся. Лило густо, ровно. С крыши вода бежала прозрачной стенкой. Во дворе натекла пенная лужа, в ней надувались и лопались желтые пузыри. Все было пронзительно-зеленым и чистым; остро пахло травой, деревней. Невозвратным.
Морковин вышел на середину двора, подставил лицо дождю, расстегнул ворот рубахи, глубоко, возбужденно дышал, быстро поднимались и опускались белые, бескровные веки. Он сжимал и разжимал кулаки, шевелились его впалые губы. Чем-то он был похож на старое, кряжистое, дуплистое дерево, которое подожгла гроза.
- Добрый дожж, добрый! - быстро заговорил он. - Сычас в лугах хорошо, духовито. А по-над речкой, небось, туман скопляется, сторожкий такой, легкий. И дожж яво прошиваить. - Он спешил, спешил говорить. - А ночью-то разгуляется. Вон край неба чистый. Тихо станет. И звезды по небу. - Повернувшись к избе, он вдруг замолчал.
Около избы стояла пестрая крупная корова, а рядом - Марья, потерянная, мокрая, с бессильно поникшими руками. Смотрела на мужа, на нас.
Морковин преобразился: лицо его стало злым, напряженным, запрыгал правый уголок рта. Он закричал исступленно, брызгаясь слюной:
- Да ты что? Очумела? Никак, корова не доена?! Чтоб она молока сбавила? Али отел задержалси? На рынке-то молоко ныне вздорожало! А ты! Копейку не бережешь! По миру мене пустить хочешь!
Семеныч взял его за плечи, повел к калитке. Морковин вертел головой, все кричал:
- Ой, гляди, Марья!.. Ишь, добро не бережеть! Слышь, чтоб вовремя доить! Да яблоки-падалицу, я насбирал, продай. Слышь?
Все вышли на улицу. Следом за нами, как слепая, брела Марья.
На улице, вокруг милицейской машины, стояла молчаливая мокрая толпа. Опять расступились перед нами, образовался коридор. По нему Семеныч повел Морковина. И он вдруг остановился, стал упираться. Оглядывался, оглядывался, оглядывался... Подоспел Захарыч. Они под руки повели Морковина к машине.
Его насильно втолкнули в машину. Следом влезли милиционеры. Хлопнула дверца. За решетчатым окошком металось лицо Морковина. Машина тронулась, круто развернулась, запрыгала на ухабах.
Толпа молчала. Смотрела вслед синей машине с красной полосой по борту.
Вдруг за толпой страшно завыла Марья. Потом вой оборвался: Марья завалилась на бок, видно, потеряла сознание. Над ней склонились старухи.
- Мне бы его сейчас каким он в колхоз вступал, - тихо сказал рядом Иван Матвеевич. - Еще можно было человека вылепить. - И вздохнул. - Совсем без рабочих рук пропадаем.
Опять все молчали. Шумел дождь.
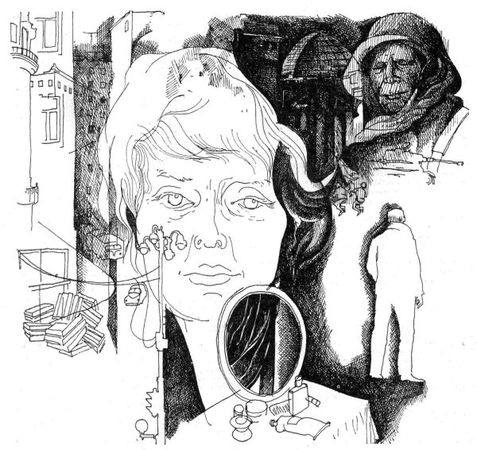
И тут я услышал всхлипывания. Еще не повернувшись, я почувствовал, что это Катя. И, точно, это была она. Растрепанная, босая, в мокром платье, прилипшем к телу, так что четко были видны маленькие, крепкие груди, Катя даже поднялась на цыпочки, чтобы видеть машину, и смешно, по-детски плакала, взахлеб.
Теперь все смотрели на нее.
- Ты чего это? - сердито спросил Иван Матвеевич.
- Он же ста-арый... Стары-ый-преста-арый!.. - сквозь всхлипывания сказала она. - Ведь все-о равно! Все ра-авно!..
Рядом с Катей стоял пегий, блестящий от дождя теленок с белой звездочкой на лбу; он потешно, беспомощно переминался на длинных ногах, прижимал ушки к голове и сосал Катин палец.
31
В сентябре в нашей прокуратуре торжественно отмечали шестидесятилетие Николая Борисовича Змейкина. Много было гостей, приветствий; под оркестр вручали грамоты, награды, подарки. Сам юбиляр в строгом черном костюме казался величественным, усталым, очень добрым и мирным на вид. Всем дружески, немного грустно улыбался. И мне тоже. Вообще со мной Николай Борисович ровен, даже приветлив. Правда, давно не говорит, что я дальний корабль. Теперь дальний корабль - Воеводин. Шеф ему усиленно покровительствует.
Кстати, от сослуживцев приветствовал юбиляра как раз он, молодой следователь Воеводин. (У него длинное лицо с тяжелым подбородком, зоркие глубокие глаза под светлыми бровями; когда Слава Воеводин говорит, он сильно потирает руки и часто сморкается в безукоризненно белые душистые платки.) Речь он произносил очень проникновенно и взволнованно. И, по-моему, сам был растроган больше всех.
С ответным словом к присутствующим Николай Борисович обратился уже за банкетным столом, когда немного выпили. Всех благодарил. Сдержанно сказал, что не заслужил столь высоких похвал и наград и воспринимает все это как аванс за будущую работу.
Сказал: